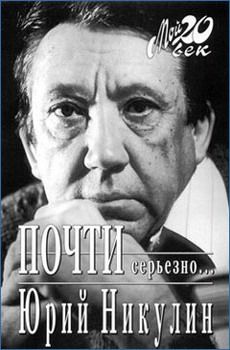Юрий Власов - Соленые радости
И в ушах странная мешанина: гавоты, менуэты, хоралы… Корелли, Вивальди, Рамо… и Марсельеза… Кто слышал, как требует толпа! Как дышит толпа! Неподкупный! Искренность! Празднество Высшего Существа! Безбожие!..
Лошади распаленно горячи во сне. Кучера непробудны в своих снах. Торопливы минуты перед рассветом… А что сказать завтра?.. Сен-Жюст, Кутон… Неподкупный!
Карно? Лаплас? Если бы эти ученые головы умели рассчитывать будущее? Что все эти формулы, если нельзя рассчитать будущее?
Отсюда, из этих стен, вскоре после падения республики якобинцев, дроги повезли на казнь Фукье-Тэнвилля… Конвент, Комитет Общественного Спасения, Друг Народа, Бабеф…
Ночь с девятого на десятое термидора. Алчность в одеждах справедливости восстает.
Эта ночь в Конвенте. Та ночь! Робеспьер кричит депутатам: «К вам, к вам обращаюсь, непорочные доблестные мужи, а не разбойники!»
Злоба, восторг, сомнение и ужас… И ни одного жеста или слова преданности!
Робеспьер кричит президенту Конвента: «В последний раз, президент убийц, прошу у тебя слова!..» Но уже поздно. Конвент во власти заговорщиков.
«…Присоедините и меня к нему!» – поднимается с места Робеспьер-младший.
Чтобы не попасть в руки заговорщиков, Робеспьер спускает курок… Я видел пистолеты того времени. Пуля увесиста и велика. По описаниям современников, ее выходное отверстие оставляло на теле рану с фарфоровое блюдце… Современники имели в виду блюдце чайного сервиза. Как призрачно голубоват этот настоящий фарфор! Как хрупок и невесом!..
Пуля дырявит рот – Робеспьер жив. Его кладут на стол… для поругания. Кровь на щеках, на подбородке, шее, затылке. В мазках крови синий фрак, белые чулки и нанковые штаны, модной в ту пору бумажной ткани. Робеспьер утирается кобурой пистолета. Он не выражает ни страха, ни отчаяния – это отмечали все очевидцы.
Поступь толпы – жадный напор толпы. Жандармы, носилки с Робеспьером. За ним врач – приказано предпринять все, чтобы Неподкупный дожил до казни. Зрелища казни. Глумления.
Глупое состояние беспомощности. Какими еще словами пробить уши этого любопытства! Что устоит перед поруганием любопытства и выжидания? И это лица? Господи, это лица! За носилками конвоируют Сен-Жюста и Дюма. Сен-Жюст по обыкновению элегантен и невозмутим. Путь из Тюильри в Консьержери…
Эти стены много знают. Знают даже о бессмертии и Бессмертных. Но не тех Бессмертных, как иронически называют членов французской академии…
Улица Сент-Оноре, Тюильрийский сад… Четыре часа пополудни. Гревская площадь. Эшафот. Палачи срывают повязку – Робеспьер не вытирает кровь. Здесь же Сен-Жюст, Кутон, Дюма, Анрио, Огюстен Робеспьер-младший- брат Неподкупного… – двадцать один смертник. Цвет якобинства. Жандармы на выкрики толпы саблями указывают, кто среди этих двадцати одного знаменитый Робеспьер. Нет, не путайте его с Огюстеном! Нет, вот этот! Этот и есть тот самый! Взводится скошенное лезвие гильотины. Миг!..
С глухим стуком скатывается в корзину голова. Гаснет сознание. Небытие.
Но нет гильотины для «Декларации прав человека и гражданина», предложенной Максимилианом Робеспьером двадцать четвертого апреля тысяча семьсот девяносто третьего года. Память чеканит слова:
«…Если один из членов общества подвергается угнетению, налицо угнетение всего общества. Если общество подвергается угнетению, налицо угнетение каждого члена общества… Люди всех стран братья, и разные народы должны взаимно помогать друг другу по мере своих сил, подобно гражданам одного и того же государства…»
Каждое падение лезвия гильотины толпа встречает овациями. В стоке не просыхает кровь. Феодалы и буржуа возвращали свое «богом данное» право на диктатуру, суд и обогащение. На эшафоте бесчестили историю.
И снова память чеканит строки. Это откровения маленького Тьера – душителя парижской коммуны, потратившего добрую часть жизни на опорочивание смысла борьбы Робеспьера и его личности: «Робеспьер был, безусловно, честен и неподкупен, а чтобы пленить массы, необходимо доброе имя. Он был безжалостен – а жалость губит людей в революциях. Он обладал гордостью, упорством и настойчивостью… Талант Робеспьера чрезвычайно развился в долгую борьбу революции… Слог его обладал чистотой, блеском и силой…»
Десятого и одиннадцатого термидора за газеты платили баснословно: тридцать франков! Шампанским торговали нарасхват. Курьеры загоняли лошадей, чтобы обрадовать своих монархов. В Антибе у матери после утомительной поездки в Геную отдыхал Наполеон Буонапарте – протеже Робеспьера-младшего – генерал от республики после Тулона, надежда революционной Франции…
Европа ликовала! Будущие декабристы из своих люлек слышали счастливую суету родовых гнезд. Образа святых озаряли все новые и новые свечи…
Мадам Масперо едва здоровалась со мной. По ее представлениям я вел себя более чем неприлично. Я нарушал священный уклад жизни. Еще до рассвета я будил привратника – ее обедневшего родственника. Щелкал замок – и за спиной оставалась заспанная склеротическая физиономия ценителя виноградных вин. И ночь узнавала меня. И самолет на рекламном щите обещал все восторги путешествий. И едва уловимая синь уже подкрашивала небо. И черный кот щурил свои пустые зеленые глаза. И знакомо гулко стучали мои шаги. И угодлива была пустота всех улиц. Я умел ладить с их одиночеством. Улицы были полны моим ожиданием. И все рассветы вставали, чтобы не обмануть мои ожидания. И солнце давило на плечи, обжигало лицо, расточало жар, поднимало город из ночи, чтобы я узнавал свои мечты. Солнце было в сговоре со мной.
За листвой, подсушенной зноем, качалось небо, ровное и везде одинаковое незадолго перед восходом солнца и вспаханное облаками, бездонно-синее – днем. Широко и жадно были расставлены ветви, тяжело и крепко напитаны соками кряжистые стволы. Солнце теряло силу в жадности прикосновений. Сонно замирали деревья. Жар томил плоть деревьев. Истома чудилась в шорохе листвы.
Кора лип была сероватой, будто выпотевшая солью, вспученная в местах, где прежде рождались ветви. Продольные утолщения коры столетиями взбирались от корневищ к макушкам.
Зачем я приходил к ним? Зачем я топтал утренние тени? Разве я мог выразить это словами? Если бы я знал точнее название тех слов…
Но ведь тишина знала! Пустота улиц знала. И солнце- тоже, и эти деревья, которые только и были заняты тем, что ловили солнце.
И когда я ощущал тепло солнца на коре старого дерева, я верил, будто жизнь только начинается. И когда в далекие улицы вдруг тонко и остро впивались жала солнца, я опять верил в то, что все впереди. И еще когда только начинало светлеть небо, я уже испытывал то же чувство. Нежными и сильными голосами начинали звучать эти чувства. И я слепнул, глохнул, вслушиваясь в них, узнавая их. И мир обретал вдруг необыкновенную ясность. Ясность моих детских фантазий. Юношеских фантазий. Бреда первой влюбленности.
И я уже терял себя в слитностях нежности, исступления, чистоты и наплыва все новых и новых чувств.
Я был груб. Сила утверждала мою грубость. Во всех залах мира я утверждал права своей силы. Мускулы выбирали слова для моей жизни. Все эти слова льстили. Сила отстаивала эти слова. А я забывал их в одиночестве улиц, в веселии рыжего солнца, в ласке старых деревьев, волнении невысказанных слов.
Я был нем словами. Их было очень много. И я умел читать их, но был нем. Каждое слово, произнесенное вслух, умирало. И я берег все эти слова. Это было странное счастье. Немое счастье.
Все надежды обещали сбыться. Но я не знал, какие. Просто надежды больших и светлых чувств…
А на рассвете ветерок будил еще по-ночному глубокие тени. Путались шаги в этих тенях. И на дорожках скверов влажновато отпечатывались следы моих ног. И нетронутыми лежали одинокие листья. Птицы подпускали так близко, что я видел желтоватую кожицу вокруг глаз. Потом они взлетали плотной осенней стаей. И потрескивали крылья, и воздух туго вырывался из-под крыльев. Птицы всегда кормились, когда небо становилось розоватым, и этой розоватостью светилась даже трава на газонах. И если провести ладонью по скамейке, она становилась мокрой, а на росистой поверхности оставался темный след.
На третий день ближе к полуночи Мадам Масперо пригласила меня к телефону. В тот вечер она замещала своего привратника. В трубке я услышал неторопливую русскую речь. Аркадий Зимин – так назвался человек – сказал, что тренировался с Сашкой Каменевым, сам «железятник», брал призовые места на республиканских чемпионатах, называл общих знакомых и взял с меня обещание быть завтра к четырем в нашем посольстве. Назавтра у меня был свободный вечер, и я согласился. Я положил трубку и разозлился на себя. Я знал эти приглашения. Всех интересовали подробности поединков и мои шансы. И шансы тех, кто мог «съесть» меня. Все вопросы я знал наизусть. И еще мне опротивели эти просьбы выпить. И похвальба, кто сколько выпивал и съедал из чемпионов прошлого. Между желудком и силой разницы не делали. И еще давали понять, что они, хоть и не чемпионы, но не лыком шиты. И все рассуждали о силе, словно знали о ней все.