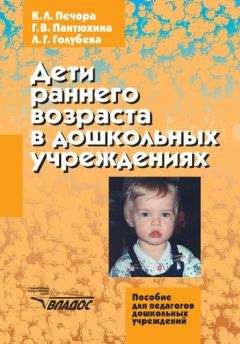Михаил Александров - Кожаные перчатки
Все мне стало безразличным. Смутно думал о том, что, конечно, на ринг теперь не допустят. Ну и черт с ним, с рингом. «Перерожденец!» — кажется, такое слово выкрикивал Юрий Ильич в то время, пока я боролся с Геннадием и Сашкой, силясь вырваться. Перерожденец… Мать бы моя вам глаза выцарапала за это…
Внизу, видно, в ресторане, заиграл джаз. Значит, уже наступает вечер. Скорее бы все это кончилось, как угодно, только бы скорее.
Потом стукнула дверь, и кто-то, подойдя, сел на край постели. Человек, видно, был тяжелый, потому что постель жалобно скрипнула.
— Ну, будет валяться! — услышал я голос Аркадия Степановича.
Я повернулся к нему, сел.
— Дурак, — сказал старик. — Вот уж дубина, каких я еще и не видывал! За дурость ответишь сполна… Пошли ужинать.
6Точно я до сих пор не знаю, что у них там происходило после того, как я выскочил из номера Аркадия Степановича. Генка был немногословен: «Чепуха… Старик, в общем, на высоте, доблестный старик… Всыпал тому, еще как… С философской, понимаешь, подоплекой…» Сашка и вовсе мычал: «Ладно тебе размазывать…»
Позднее я еще слышал, будто Генка с Сашкой так, в свою очередь, насели на того человека, что тот не знал, как и отбиться. Это мне Арчил рассказал по великому секрету. Можно верить — уши у парня, как известно, торчком.
Отошел я немного. Только очень плохо спалось. Уж больно тоскливо поскрипывал ржавый рыцарь на крыше. Ветрено было всю ночь. Верно, от того здорово разболелась голова, так, что трудно стало поднимать веки. Пробовал читать, завесив лампочку полотенцем, но проснулся Генка, сработал, видно, условный рефлекс:
— Который час? — взметнулся спросонья.
— Не знаю… Кажется, три пробило… Ты спишь?
— Ага… И ты спи… Завтра ж драться…
Утром в наш номер зашел Аркадий Степанович, посмотрел на меня, поморщился, сказал, что ему не нравится мой вид. «Спал?» — «Спал», — соврал я. Старик сказал, что я могу не выступать, совершенно не обязательно, можно обойтись и без тяжелого веса. «Что вы! — сказал я. — Не могу я не выступать, вы же сами понимаете…» — «Как знаешь, — он покашлял, — в общем-то можно обойтись…» — «Нельзя, — сказал я, — никак без меня не обойтись…»
Мы поехали в «Спорт-паллас». Всю дорогу Арчил не закрывал рта. Он сидел рядом со мной, подпрыгивая на мягкой подушке, и болтал, лихо перескакивая с одною на другое, явно развлекал меня. Его занимало все, что он успевал увидеть в окно: нескончаемая вереница людей, идущих в сторону «Спорт-палласа», машины, среди которых наш автобус медленно плыл в том же направлении, огни реклам, снующие вверх и вниз, ремешок на сине-багровой физиономии полицейского, будто привязывающий ее, чтобы она не отлетела от резких поворотов туда и сюда…
Арчила занимало все. Но его потому все занимало, что он хотел отвлечь меня. Ему предстояло первым выходить на ринг, а он старался развлечь болтовней меня, потому что это ему сейчас казалось особенно необходимо. Обычно в таких случаях я умолял муху не зудеть, отпустить душу на покаяние, но теперь не хотел вспугивать неосторожным словом эту возбужденную болтовню, больше того, болтал вместе с ним, чтобы парень не беспокоился, чтобы понял: все нормально, я держусь хорошо.
Была в дороге неприятная задержка. Медленно продвигался наш автобус, затертый машинами, и вдруг, немного не доехав до «Спорт-палласа», остановился вовсе.
Шофер развел руками. Он, дескать, не уверен, что нам удастся скоро тронуться, смотрите сами.
Шофер показал рукой на то, что делалось впереди. Его била дрожь нетерпения и, наверное, если б не обязанность торчать здесь, в машине, он оказался там же.
Впереди в ослепительном свете сотен фар, в реве сирен, уткнувшихся в толпу машин, что-то орало, колыхалось. Толпа закрыла собой улицу, отбросив, вдавив в стены домов цепочку полицейских в черных, лоснящихся от дождя крылатках.
Мы видели, как над толпой поднялась фигура человека. Человек сидел на чьих-то головах и плечах и так, сидя на головах, медленно плыл к «Спорт-палласу», посылал направо и налево приветы.
— Берлунд! — всхлипнул наш шофер, морщинистый, маленький человечек.
Не в силах сдержать нетерпеливую дрожь восторга маленького человечка перед чем-то огромным, сильным, знаменитым, он, рискуя вовсе вывалиться из окна кабины, высунулся, сдернул кепчонку, бешено завращал ею, а потом, чуть не плача, что-то крича хрипловатым тенорком, забросил эту кепчонку туда, в толпу, несущую на головах, на руках белокурого гиганта к победе.
Мы сидели тихо. Мы были немного угнетены этим зрелищем. Не знаю, почему Аркадий Степанович сказал, что, между прочим, у нашего шофера неизлечимо больна полиартритом младшая дочь, оттого что семья живет в полуподвале и никогда не видит солнца, видит только ноги в галошах.
Сейчас я думаю, что, пожалуй, нельзя было нарочно придумать для нас возбудителя острей, чем эта сценка в пути.
Ребята как-то еще больше внутренне подобрались, спружинились, словно крепко сжатый кулак.
Далеко не все мы по-настоящему разбирались в философских вопросах современности. Вряд ли смогли бы толком объяснить, отчего, например, зрелище белокурого гиганта над головами толпы и этот хрипловатый, тоненький исступленный вопль немолодого, семейного маленького человечка за рулем произвели на нас такое удручающее впечатление. Мне кажется, был в чем-то неправ дружище Арчил, когда он вдруг сердито сказал, кивнув на толпу, ревущую в свете фар: «Вот он откуда берется — проклятый фашизм!»
Но что-то глубоко чуждое мы почуяли без ошибки. Почуяли и подобрались. И, надев боксерские кожаные перчатки, наверняка не видя, нет, в сопернике на ринге лютого классового врага, дрались все же в тот вечер серьезно, крепко, зорко, как, может быть, никогда до этого. И опять-таки спроси: отчего? — не сумели бы ответить. Просто хорошо дрались, словно стремясь что-то опровергнуть, что-то свое утвердить.
Выиграли все бои. Каждый из ребят выигрывал по-своему, в своей манере, но выиграли все.
Было легко? Не знаю. Боев я не видел. Но не думаю, чтобы победы всем дались легко.
Тяжело дышал, хватал воздух и никак не мог надышаться Арчил. Ему-то уж наверняка пришлось потрудней остальных. Он, как всегда, выступал первым. Трещотки, свист, ор — все это глушило парня с первой до последней секунды на ринге, а ведь как важно было для всех нас хорошее начало.
Мельком я видел его противника, когда тот шел в зал по коридору. На диво головастый и коренастенький, как пенек, физиономия капризная и упрямая. Подумалось, что такие способны на что угодно, лишь бы вырвать успех.
После боя Арчил не мог нахвататься воздуха, не мог говорить.
Головастый пенек, как рассказывали, тут же на ринге, устроил жуткую истерику, лез на судью с кулаками, когда после боя не его руку подняли.
Потом кого-то несли по коридору на руках, и я увидел в полуоткрытую дверь безвольно болтавшуюся голову.
Это повторилось, кажется, два или три раза.
Вел кого-то по коридору, бережно обняв за плечи, Геннадий. Это уж я помню отчетливо. Помню отчетливо хотя бы потому, что они зачем-то зашли вместе в нашу раздевалку, сидели вместе, помогали друг другу разбинтовать руки, о чем-то разговаривали, даже смеялись.
— Отличный малый! — сказал Геннадий, проводив парня. — Представляешь, простой лесоруб у хозяйчика, но еще и студент-филолог. И боксерище превосходный. Как жаль, что он так неосторожно открылся…
— О чем говорили-то?
— Ну, о многом… О Толстом, например. Он очень любит Льва Толстого. Даже переводит его…
То ли устал, перенервничав, зал, то ли слишком уж убедительно выигрывали наши ребята, только вопли, свист и гомон стали значительно тише, и я, сидя в ожидании своего выхода, не раз уже слышал гулкие обвалы аплодисментов, пугался, но когда спрашивал прибегающих из зала наших ребят, кому хлопали, они говорили возбужденно: «Нашему!»
Только трещотки еще рвали на части воздух, бились в деревянном, наглом грохоте.
— Это, знаешь, где все время трещат? — присев на секунду рядом, сообщил до крайности взбудораженный происходящим Арчил. — Там, повыше, как раз над нашим углом ринга. Типы какие-то! Ты не обращай внимания!
Аркадий Степанович вел меня на ринг в «Спорт-палласе». Сколько времени прошло с тех пор, как он в первый раз, в нашем московском цирке, вот так же вел меня, желторотого, на первый бой в кожаных перчатках!
Старик тогда волновался. Волнуется и сейчас. Я изменил ему, наделал много глупостей, но старик идет рядом и волнуется. Он здорово с тех пор постарел, чего уж говорить. Однако багровые, неровные пятна на широченном лбу и на шее все такие же, какими были тогда. И кажется, я для него все тот же желторотый и нескладный парень, за которого никто другой, как он, старый тренер, не несет личную и полную ответственность.
Я шел на ринг для того, чтобы победить. Не мыслил иначе. Я отдавал себе отчет в том, что далек от лучшей формы. Бессонная ночь, пляшущие нервы — это не лучшее, в чем нуждается боксер накануне поединка.