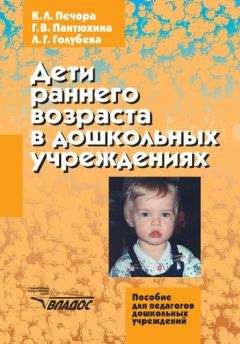Михаил Александров - Кожаные перчатки
Пожаловался я, что с образованьицем неважно: семь классов. Он тоже посетовал: «Все, понимаешь, руки не доходят. А надо. Чем дальше, тем будет трудней: техника вон куда шагает!»
Докурив, Кот аккуратно пригасил окурок о дно чистенькой, с бронзовым отливом пепельницы. Поговорили о том, куда и зачем мы, боксеры, едем. Он знал, читал в газете: «Смотри, не оплошай, тезка, болеть буду за тебя, по знакомству!» Я сказал, что после поездки брошу бокс. «Чего ж так? — удивился Кот. — Иль бьют здорово?» Сказал ему, что не в том дело, покуда еще не бьют, сам бью. «Тогда с чего бросать? Дело хорошее! Я, брат, сам на велосипеде в районе — второе место. Шутишь!»
Медленно, будто нехотя, опускалась темнота, все чаще стали мерцать теплые огни в размытых туманцем далях. Николай спросил, холостой я или женат. «Женатый, — сказал я, — и сынишка есть, Петька». Николай сказал, что женат тоже, но ребятишек двое.
— Баба-то как твоя, любит?
— Очень, — сказал я.
Николай сказал, что и у него в семье все нормально, что баба тоже хорошая, лучше не надо, с такой все переживешь. Посоветовал мне, следуя ходу каких-то своих мыслей: «Ты, боксер, больно круто в жизни не забирай, с умом… О бабе подумай. Мало мы о них думаем, а ведь стоят…»
Ночью он вышел. Нижняя полка справа от двери, которую он занимал, была теперь занята молоденькой мамашей, спавшей в обнимку с румяным, в голубой рубашонке малышом.
У меня осталась от попутчика спичечная коробка. Николай написал на ней свой адрес. В дороге всегда пишут друг другу адреса и зовут приезжать. Я знал, что к нему не поеду и что вообще вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся. Но думал о нем с удовольствием. Так бывает, когда откуда-то возвращаешься, еще не дошел, и встречаешь знакомое лицо. Тебе он ни сват, ни брат, но все равно — свой, из родных мест.
2Гуннар Берлунд… Его изображения были всюду. Большеголовый, с коротким тупым носом, выдвинутыми вперед челюстями, пробором в ниточку, покатыми, по-женски гладкими плечами, он был поразительно красив. Он был изображен во всех видах. Он смеялся, как счастливый мальчишка, показывая отличные, белые и крепкие зубы. И он же в боевой стойке разил, убивал наповал светлыми, слегка прищуренными глазами, глядящими на тебя в упор, презрительно и угрожающе.
Гуннар Берлунд… Он и сейчас, много лет спустя, навещает мою бессонницу. Отсветы фар пробегающих улицей машин ложатся на мои старые боксерские перчатки, в которых я с ним дрался. И я шевелю пальцами рук — не слишком ли туго забинтовано?..
Мы еще не додрались. Никому не мешает, когда человек в годах, такой, как я, лежит себе ночью и воображает. Он может воображать все, что ему придет в голову. Может вообразить, будто ему сейчас снова выходить на ринг драться с чемпионом Европы. Это вовсе не важно, что утром жена скажет, когда я стану бриться: «Дай выдерну седой волосок на виске. Хочу, чтобы ты был молодым…»
Я еще не додрался с Гуннаром Берлундом, хотя знаю, что этот рыхлый толстяк с астмой давно уже в своем ресторанчике разливает пиво гостям.
Я еще не додрался с Гуннаром. Вижу, как он, могучий самоуверенный красавец, легко перепрыгивает через канаты ринга и под ликующий рев посылает приветы в зал, синий и зыбкий от табачного дыма. Сколько тогда ударов в минуту отсчитывал мой пульс? Помнится, что-то около ста шестидесяти, при сорока нормальных…
Боялся я?
Или взвинтился-таки до бешенства?
Все шло к тому с момента, как мы туда приехали.
Дождь встретил нас. Старческий, самому себе надоевший, дождь поплелся следом за нами и уж не отставал до конца нашего пребывания в городе, на чужбине.
Сиплый дождь в шаркающих калошах и ржавый скрип ржавого рыцаря на остроконечной башенке как раз перед нашим окном.
И еще — Гуннар Берлунд. Его лицо.
Шофер подбористого автобусика, который вез нас с вокзала в отель, морщинистый, светлоглазый человек, распознав во мне тяжеловеса, приподнял кепи, ткнул пальцем в открытку, прилепленную к ветровому стеклу:
— Берлунд!
Холеный, энергичный, с бегающими глазами портье в отеле, приняв наши паспорта, заметно разволновался, раскрыв мой паспорт, умчался куда-то, вернулся, протянул мне вместе с массивным ключом от номера превосходную фотографию Берлунда, снятого в рост, заулыбался, будто сделал подарок немыслимой ценности:
— О! Берлунд!..
Лифтер, расшитый галунами подросток с белесыми ресницами, поднимая нас на четвертый этаж, не переставая что-то говорил, причем каждым вторым словом было, конечно, «Берлунд». Он внес наши с Геннадием чемоданчики в номер, сдернул с головы голубую шапчонку и долго еще торчал у двери, беспардонно меня разглядывая.
Впрочем, это были цветочки…
Не успели мы с Геннадием разложить пожитки, в дверь постучались. Не дожидаясь ответа, ввалились запаленно дыша, до смешного контрастные и вместе с тем неуловимо чем-то схожие корреспонденты. Чопорный номер, с тяжелыми занавесями и старинной, изрядно пожелтевшей гравюрой, мгновенно заплясал яростными вспышками блицев. На беду мы как раз разглядывали фотографию моего будущего соперника. Это вызвало сенсацию. Вечные перья, разбрызгивая чернила, рвали бумагу в блокнотах с фирменными штампами. Потом случился казус. Один из незваных гостей владел немного русским. Он взялся быть переводчиком. После двух или трех фраз, которые он перевел коллегам, Геннадий вежливенько запротестовал. Геннадий сказал, что уважаемый господин, как видно, большой шутник.
— Сожалею, но ни я, ни мой друг не говорили ничего похожего…
— О?! Вы владеете языками?..
— Шестью. Почему это вас удивляет?
— Значит, вы не боксер?
— Об этом лучше спросить у моего противника… После боя…
Здорово я возгордился нашим Пименом-летописцем. Чего бы я только ни отдал, чтобы иметь возможность вот так небрежно бросить: «Шестью!»
Спрашивали наперебой, торопясь, захлебываясь. Счастье мое, что все на себя взял Геннадий. Он, как видно, чувствовал себя, как на ринге: спокойно маневрировал, наносил легкие, но весьма чувствительные удары на каждый наскок. Сколько минут рассчитывает русский тяжеловес продержаться против Берлунда, чемпиона Европы? Геннадий совершенно серьезно обращается ко мне: «Сколько минут продержишься, Коля?» Я пожимаю плечами: «Пусть зададут тот же вопрос Берлунду…» Геннадий переводит и добавляет что-то такое от себя, отчего все смотрят на меня слегка приоткрыв рты. «Что ты им сказал?» — спрашиваю я. «Ничего особенного, — говорит Геннадий, — посоветовал не опаздывать на твой бой. Сказал, что ты не любишь зря тратить время…» — «Ну и загнул!..» — «Ничего, пусть разносят…»
Пошли вопросы с подковыркой.
— Конечно, вы обязаны только победить? Дали подписку?
— Разумеется. Каждый подписался собственной кровью…
— А если — проигрыш? Грозит, вероятно, тюрьма, Сибирь?..
— Хуже…
— О?!
— Сожжение на костре. Разве вы не слышали? У нас, Знаете, принято сжигать на костре проигравших боксеров…
Смятение, растерянность, застывшие в воздухе вечные перья. Да он, видно, дурачит всех, этот невозмутимый, без улыбки, молодой человек? Верх берет чувство юмора. Начинает хохотать один, за ним другой, и вот уж все веселятся, до слез, до того, что роняют на пол ручки и блокноты. Решительное вмешательство Аркадия Степановича, появившегося в сопровождении мрачного как туча Юрия Ильича, прерывает летучую пресс-конференцию.
Юрий Ильич подозрителен и зол. Багровея, он принимает начальнический тон, отчитывает Геннадия, хотя нас в номере двое.
— О чем говорили с иностранцами, почему был смех? Кто позволил говорить с иностранцами? Я партийным билетом отвечаю за вас, молокососов… Сниму с капитанства к чертовой матери!
Пока я начинаю закипать, ищу нужные слова, Геннадий, обращаясь только и исключительно к Аркадию Степановичу, просит напомнить некоторым товарищам, он так и говорит — некоторым товарищам, что в этом номере живут советские спортсмены и комсомольцы. Голос его при этом вздрагивает. И это так необычно для выдержанного парня, что я боюсь, как бы он не натворил чего. Аркадий Степанович, как видно, тоже это понимает. Старик кладет руку Геннадию на плечо.
— Никто не сомневается, Гена, — говорит он, — никто не сомневается. Просто будьте поосторожней, ребята. Мы ведь не дома.
3Утром мы с Геннадием выходим из отеля погулять. Люди, как у нас, шли на работу, народ, судя по времени, чиновный, служивый. Было только гораздо больше шляп, чем у нас, и еще — мужчины шли под зонтами, чего у нас почти не бывает. И еще — люди были странно похожи друг на друга застывшим на лицах выражением некоторой торжественности, рожденным, очевидно, сознанием значительности того, что они шествуют на службу.
Два мальчика, в аккуратных костюмчиках и в беретах, одинаково белобрысые и с одинаковыми, сизыми от холода голыми коленками замерли, завидя нас, в самозабвенном созерцании. Они, конечно, были готовы созерцать так до ночи. Они смотрели на нас жадно. Им, наверное, очень бы хотелось забрать нас щипчиками за шиворот и положить в конверт и потом показывать в школе. А когда надоедим, выменять на марку из Гондураса или Боливии. Когда машины заслоняли нас, мальчики вытягивали шеи и не переставали созерцать.