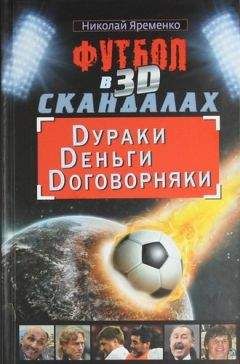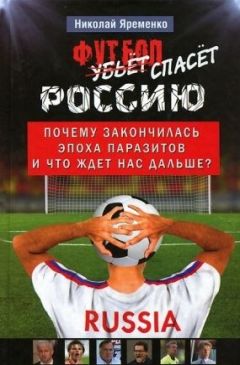Анатолий Голубев - Убежать от себя
Круто повернулся и зашагал к стеклянной коробке подъезда, манившего теплом и уютом. Обычно он, когда приводил себя в более или менее надлежащую форму, увязывался с командой. И скорее все-таки за счет воли, чем мышц, выдерживал темп, задаваемый молодым парням. Сегодня он не бежал демонстративно. Даже не сделал попытки – а это тоже случалось – пробежаться хоть сколько-то, где-то резануть трассу и на самом сложном участке оказаться вдруг старым гномом с секундомером в руке, придирчиво заглядывающим в самую душу.
По тому, что Рябов не побежал, а вот так, даже не оглянувшись, пошел в дом, дав задание, поняли, что старший тренер в большом гневе на команду и, что бы ни говорили, как бы ни острили или ворчали, день сегодня будет «бурлацкий» – так Рябов называл дни высоких физических нагрузок.
Вытянулись цепочкой, стараясь пропустить приятеля вперед, а самому устроиться подальше, в хвосте: опыт подсказывал, что такое бег по глубокому снегу. Шумная давка заставила Рябова лишь замедлить шаг, но не обернуться. Когда он оглянулся, цветастая цепочка в тренировочных костюмах, свитерах и безрукавках хвостом своим вытягивалась за ворота базы, середина пересекала заснеженное шоссе, а голова, где первым бежал Витенька, резко свернула с прочного дорожного покрытия на целину и, вспахивая глубокий снег, потянулась по крутому склону наверх, мимо старинного монастыря, мимо могилы одной из молодых княжен Юсуповых, к вековым соснам, которые тихо издали гудели под ветром, словно от удивления: за что выпало всем этим людям такое злое наказание?
«Не перегнул ли я палку? -с сомнением подумал Рябов.– Как надорвутся „кормильцы“ – будет победный счет в следующем матче! И уж тогда на мне отыграются! Не пропустят случая съязвить, что эксперименты, особенно не вовремя, всегда интересны. Ох, напрасно научил я ветеранов и идеям своим, и выражениям, и манере постоять за себя!»
Ребята бежали в гору, высоко поднимая ноги, нагибаясь и кидая в лицо шедшему сзади веера легкого снега. Кто-то подставил приятелю ножку, кто-то, не попав в пробитый след, споткнулся и рухнул в сугроб – молодость брала свое, и силушка, которой достаточно запас в них Рябов, искала выхода. Нагрузка, как бы тяжела ни была и раз уж ее не избежать, воспринималась по-рябовски – с шуткой и бодро.
Митрофан Алексеевич, завхоз базы, садовник, электрик, словом, специалист на все руки, встретил Рябова в холле недоверчивым вопросом:
– Как же с катком, Борис Лександрович?
– А что с катком? – переспросил Рябов.
– Так ведь не убран он. Снега тьма. Часа два прокопаюсь. А вы зачем-то убирать не даете. Чудно!
Рябов обнял Митрофана Алексеевича за плечи и вкрадчиво произнес:
– Тебя, когда в детстве провинишься, мать как наказывала?
– Тай просто – в лес за хворостом гоняла.
– О! – подхватил Рябов.– Этих детишек, чтобы играли как следует, мы накажем методом твоей мамки – пусть каточек для себя сами полопатят!
– Тренировочное время уйдет…
– Далеко не уйдет. После копки снега и с шайбочкой побегают. Еще как побегают! Так что, Митрофан Алексеевич, готовь лопаты.
– Где я их на всю ораву возьму? Ну, с десяток, считай, ломаные там, наскребу.
– А мы конвейер устроим: один отработал, дай другому– и чтобы в темпе, и чтобы как следует.
– Это только на сегодня, или как? – поинтересовался завхоз.
– Как играть будут, – буркнул Рябов, совсем теряя интерес к разговору.
Мысли его снова унеслись туда, в сосновый бор, на крутые берега Москвы-реки, с которых распахивались невиданная ширь и приятственность для глаза. Он любил эту базу: почти вся жизнь была связана с ней. Но еще любил ее за окрестности, лучше которых и не знал под Москвой.
Мечтал купить здесь домик, но маленьких не было, да и продавались они тут неохотно. И потому смирился и попал в Салтыковку. Как ни хорошо там было, но здешние места не шли ни в какое сравнение.
Излучина Москвы-реки раскинулась просторно и тянулась к дальнему лесу, что окаймлял горизонт. С кручи, от могилы княжны, открывался особенно очаровательный вид. В каждый сезон по-своему неповторимый, но одинаково прекрасный.
Конечно, зима на краски скупа. Но вечная зелень соснового бора да оранжевые на солнце рубашки сосновых стволов в летней, скажем, или осенней круговерти красок терялись, а тут вдруг ярко выступали нарочитыми мазками на черно-белом фоне полотна гениального художника.
Мягкие, укутанные снегами просторы дышали покоем, вызывая в смотрящем на них ответное чувство успокоения. Не дремотный, а этакий добрый зимний покой навевало на сердце.
Рябов пожалел, что не пробежался с парнями, хотя бы до крутоярья.
«Нет, надо держать характер. С ними без характера нельзя. Только сделай полшага назад – на десяток метров отступить тут же заставят. Пускай прочувствуют! Моего дурного настроения они больше любого разноса боятся. А крик что, крик для провинившегося как бы прощение. Вот, мол, и наказал, чего тебе еще от меня надо!»
С раскрытым блокнотом Рябов плюхнулся на стоявшее тут же в холле мягкое кресло, в котором очень любила сидеть Стеша, поджидая команду после игры, когда на кухне все уже готово и на столах накрыто. Она взлетала из кресла с щебетаньем или молча исчезала за кухонной дверью, в зависимости от того, как закончилась игра – выиграли или подарили соперникам оба очка. Из этого кресла она смотрела все игры хоккейных чемпионатов, ни разу не побывав на стадионе. Но даже когда собиралась команда посмотреть чужую игру, кресло это, по общему молчаливому сговору, принадлежало бабе Стеше. Только новички по незнанию покушались на него, но ветераны быстро и доходчиво утверждали Стешину привилегию.
Рябов быстро пересмотрел характер тренировки на льду с учетом времени, упущенного на чистку льда и с учетом той солидной доли нагрузки, которую уже задал. Закончил свои расчеты точно к возвращению команды. Когда растянувшаяся, совсем не такая игривая, как в начале пути, цепочка устало подтянулась к воротам, Рябов уже стоял в проеме, уперев руки в боки и в упор рассматривая лица бегунов. Разные они были. И скрытонасмешливые– что, напугал? И радостные – вот и кончилось большое кольцо! И удивленные – неужели добежали? Но все лица сверкали потом, печать усталости коснулась каждого.
– Так! – прокричал Рябов.– Молодцы! В лимит времени даже вратари уложились. А начальство говорит, что проигрываем потому, что силы на исходе. Мне думается, слишком большой резерв их с собой по льду возим: и тратить жалко, и хомут на шее!
Его голос, подобно голосу клуши, собирал уставших парней, переходивших с бега на быстрый шаг. Кое-кто делал вялые дыхательные упражнения, а большинство просто стояло, тяжело дыша, как загнанные лошади. Белый пар плясал над окружившими Рябова игроками.
– Две минутки передохнули, а потом, чтобы не сразу к ленивой тренировке переходить, возьмем в руки лопатки. Вон Митрофан Алексеевич их сколько припас! Покажем ему, что тоже ледок чистить умеем. Да еще и по-стахановски, быстренько!
У ребят не осталось сил даже на остроты. Новички первыми обреченно потянулись к лопатам. «Кормильцы» менее охотно, но также беспрекословно подчиняясь, стали рядом. За белоснежные борта ледяного прямоугольника полетели вихри снега, будто несколько уборочных машин на высоких скоростях приводили площадку в порядок.
Рябов тоже взял приготовленную заранее лопату и начал кидать снег. Но Терехов подошел и мягким решительным жестом отобрал ее у Рябова:
– Лучше скребочком, Борис Александрович, поработайте. Лопаты и так дефицит…
25
Если умение говорить – искусство сообщать людям меньше, чем они хотели бы знать, то этим искусством Рябов не владел. Он всегда был искренним, даже когда хитрил. Сказалось спортивное прошлое: в команде, живущей общими делами, общими заботами, нет ни возможности, ни смысла таиться – рано или поздно тайное станет явным.
Он и в молодости был разговорчив, даже велеречив. Много знал и всегда охотно делился с приятелями новостями. Не видел в их жадном накопительстве никакого смысла. Возможно, куда острее своих коллег по команде ощущал недостаточность, односторонность самоутверждения лишь в поединках на льду. Физическое самоутверждение в нелегких хоккейных баталиях, которое наполняло иных чувством величайшего, порой губительного самомнения, его болезненно не удовлетворяло. Ему хотелось утвердить себя и в том, что менее спорту свойственно, – утвердиться интеллектуально.
Тренерская работа лишь усилила эту жажду, а язык на многие годы стал его едва ли не главным рабочим инструментом, которым он, подобно скульптору, пытался ваять зыбкую монументальность идеальной хоккейной команды.
Язык же, по той известной пословице, был и его врагом. Соперники Рябова всегда располагали одним преимуществом– могли отмолчаться. Рябов же любил рассуждать сам и втягивал в рассуждения других. С презрением относился к молчунам. Слишком много развелось их в последние годы. С одной стороны, крикуны, горлодеры, с другой – молчуны. Поговорку «Молчание– золото» сделали своим жизненным кредо: не скажешь глупости – сойдешь за мудреца! И так мало тех, кто может и не боится говорить по делу!