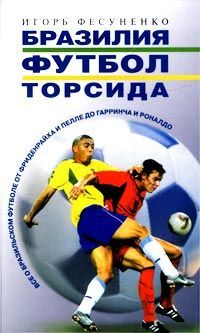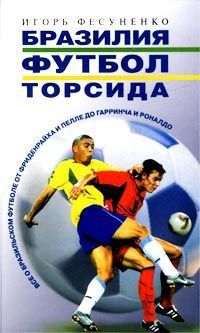Игорь Фесуненко - Пеле, Гарринча, футбол-2
Директор стадиона, растерянный и озадаченный, принял единственно верное в сложившихся условиях решение: он открыл ворота, все ворота стадиона для всех желающих, для всех, кому не достались билеты… Людское море хлынуло на трибуны стадиона…
Старожилы «Мараканы» утверждают, что такого безумия, как в тот вечер — 30 ноября 1968 года, — этот крупнейший стадион мира не видел ни разу за все восемнадцать лет своей истории.
Когда диктор объявил составы команд и торжественным баритоном произнес: «Номер седьмой — Гарринча!», трибуны исторгли нечто такое, что даже трудно назвать криком радости. А когда Маноэл появился из тоннеля в красно-черной футболке «Фламенго», извержение восторга, казалось, достигло высшей точки. Взлетели ракеты, грохнули петарды, окутав ночные трибуны дымом. И жаркий летний (в ноябре в Бразилии кончается весна!) ветер колыхнул громадное полотнище:
«Гарринча — радость народа! Бразилия приветствует тебя!» Но это было еще не все…
Начался матч. И вскоре пришел великий момент, который торсида ждала долгие годы. Мяч был послан на правый фланг. Гарринче! Когда он обработал его и замер в своей обычной позе, чуть согнувшись, лицом к лицу с левым защитником «Васко» Эбервалом, трибуны вдруг застыли в молчании, охваченные тревожным, томительным ожиданием. А через секунду, когда Гарринча своим изящным знакомым и все столь же неожиданным финтом стремительно обыграл Эбервала, случилось то, что я не берусь описывать. Я до сих пор не понимаю, почему от этого вулканического, термоядерного рева стадион не рухнул, не провалился под землю, не рассыпался на куски.
Матч продолжался под этот аккомпанемент, который, вероятно, можно услышать только на «Маракане»! Никого не интересовал конечный результат встречи, никто не хотел видеть остальных игроков. Торсида с каким-то ожесточенным упорством, с остервенением скандировала одно и то же имя: «Га-ррин-ча! Га-ррин-ча!»
30 ноября 1968 г. Гарринча играет за «Фламенго»А команда «Васко», выведенная из состояния равновесия одним лишь присутствием Маноэла, не хотела сдаваться! Гарринчу начали бить! Центральный защитник фонтана, подстраховывающий несчастного Эбервала, снес Гарринчу. Затем Эбервал ударил Манэ по лицу! Трибуны ответили возмущенно-пронзительным свистом, проклятиями и угрозами.
Так продолжалось до перерыва, когда тренер «Фламенго», увидев, что Гарринча хромает, решил сменить его. Узнав об этом, вся пресса бросилась вниз, под трибуну. Там, наверху, еще продолжался радостный рев и крики: «Га-ррин-ча!», а здесь, в жаркой раздевалке «Фламенго», было сравнительно тихо. Маноэл стоял, стаскивая футболку, и плакал. Он плакал как дитя. Слезы счастья катились по его грязному лицу. Его обнимали, ему трясли руки, хлопали по плечу.
Глядя на Манэ, подозрительно шумно сморкался, упрятав лицо в носовой платок, ветеран бразильской журналистики, многое повидавший на своем веку. Нет, невозможно было оставаться спокойным в эту минуту, слушая хриплый, запинающийся голос Гарринчи, всхлипывающего, моргающего ресницами…
— Я счастлив сейчас больше, чем десять лет назад — в Швеции. И больше, чем в Чили, где мы стали «би-кампеонами». Я никогда ничего подобного не испытывал. Я счастлив не потому, что играл. А потому, что доказал им, что еще могу играть, что мой футбол еще не умер…
Всем стало ясно, о ком говорит Маноэл. А он продолжал:
— Я рад, что торсида меня не забыла, потому что наша торсида — это самая великая торсида в мире. И ради ее уважения, ради ее признания каждый из нас пойдет на любые жертвы… И еще хочу я сказать спасибо, очень большое спасибо «Фламенго». Это великий клуб, который всю жизнь был клубом моего сердца, хотя играл я за «Ботафого». Спасибо «Фламенго» зато, что поверили в меня, что дали мне эту возможность… И я надеюсь, что смогу еще раз показать мой футбол и отдать «Фламенго» и всей торсиде свой большой долг…
Он умолк, и к нему снова протянулись десятки рук, снова защелкали блицы, посыпались вопросы, застрекотали кинокамеры. И, очнувшись, я вспомнил, что я — тоже репортер, и сунул ему под нос микрофон своего «Националя».
— Маноэл, а что вы хотели бы сказать сейчас советским радиослушателям и советской торсиде, которая помнит и любит вас?
— Я посылаю всем болельщикам в России свой привет и надеюсь, что смогу когда-нибудь снова побывать в вашей стране вместе с «Фламенго» и сыграть лучше и больше, чем я сыграл на вашем стадионе в 1965 году… И еще я хочу сказать всем вам, что очень люблю «Фламенго» и благодарю его от всего сердца…
Потом шел второй тайм, но игра уже никого не интересовала, тысячи людей столпились близ центрального холла «Мараканы», ожидая появления Гарринчи. Появились «батареи», они спустились из фавел, расположившихся на горах вокруг «Мараканы». Тысячи глоток под грохот тамбуринов, атобакес и сурдос скандировали: «Оле! Оле! Манэ Гарринче еще лучше, чем Пеле!..»
И когда появился ослабевший от матча, от переживаний, от счастья и слез Маноэл, его подхватили на руки. И под радостный, ликующий рев десятков тысяч мулатов, креолов, людей, для которых футбол является единственной радостью в этой жизни, полной невзгод и лишений, понесли вокруг стадиона. Автомашины салютовали герою сиренами. Колыхались флаги. Свирепые полицейские бежали следом, как мальчишки, стремясь если не прикоснуться к нему, то хотя бы увидеть краешком глаза Гарринчу. И в этот момент, пожалуй, легче всего было понять, почему люди дали этому парню такое светлое прозвище — Радость народа!
На следующий день на «Маракане» играл «Сантос», и я воспользовался этим случаем, чтобы разыскать Пеле и спросить у него, что он думает о возвращении Гарринчи. «Король» сказал:
— Пожалуй, это является самым важным событием в бразильском футболе за последние годы. И я очень рад за Манэ. Рад, что он сумел доказать свою правоту всем, кто кричал, что его футбол умер… А что касается перспектив, будущего, дальнейших возможностей Гарринчи, то об этом трудно пока говорить. Во всяком случае, он сделан самое главное. Он доказал, что обладает железной силой воли. Что умеет добиваться того, что на первый взгляд кажется невозможным… И если он сможет играть так, как играл вчера, если он даже сможет показывать хотя бы 50–60 % того, чем он обладал раньше, среди наших нынешних правых крайних трудно будет найти такого, кто сумеет с ним поспорить…
* * *Прошло несколько дней. Схлынула волна ажиотажа и восторгов. Началась пора трезвого анализа и размышлений.
Президент «Фламенго» Вейга Брито довольно потирал руки: премьера Гарринчи принесла в кассу клуба 100 тысяч крузейро. Совершенно неожиданно. Эти деньги не были предусмотрены финансовыми планами. Они прямо-таки с неба упали… Можно было заплатить кое-какие долги. И вознаградить Гарринчу. Ему выдали две тысячи крузейро. Потом с ним заключили контракт. На полгода. Условия были очень неплохие, достойные «би-кампеона» — четыре тысячи крузейро (тысяча долларов) в месяц зарплаты и дополнительно три тысячи крузейро за каждую игру. Сезон окончился, команды были распущены на обязательные каникулы, а Манэ продолжал тренироваться. Он даже отказался принять участие в традиционном рождественском обеде «Фламенго».
— Знаете, я боюсь этих гусей: ешь, ешь, и все хочется добавки… А потом глядишь: живот заплыл жиром, и все надо начинать снова…
Начался новый сезон. Гарринча сыграл раз, другой, а потом прочно сел на скамейку запасных: по просьбе нового тренера Тима новый президент «Фламенго» Ришер купил у аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» стремительного, молодого Довала. Правого крайнего. На место Гарринчи. И Довал играл действительно здорово. Он стал кумиром торсиды, завсегдатаем газетных полос, любимцем репортеров.
А о Гарринче снова забыли… Маноэл сделал свое дело, Маноэл может уйти. Некоторое время он продолжал числиться в штатных ведомостях «Фламенго». Но его даже не включали в число пяти запасных, которые раздеваются перед матчем и сидят на скамейке в надежде выйти на поле хотя бы на несколько минут… А вскоре контракт кончился, и Гарринча снова оказался на улице.
Что же это, конец? Разве можно умереть дважды?..
А в ответ я слышу скрипучий голос какого-нибудь картолы с до мерзости обоснованным ответом:
«А что тут такого? Никакой футболист не вечен! Гарринче уже тридцать пять. Пора уступить место молодым…»
Да, пора… Как это сделали соратники Маноэла, добывавшие вместе с ним «золото» в Швеции: Нилтон Сантос и Загало, Джалма Сантос и Зито, Диди и вот только что Жилмар… Уходить пора. Но уходить можно по-разному. Торсида воздала Маноэлу самые великие почести, которые доставались на долю футболиста. Но торсида не может дать ему пенсию. Не может обеспечить его работой…
«Он сам виноват, — слышу я голос картолы. — Нужно было думать об этом пораньше. Как это делали тот же Нилтон и Диди. Как сейчас это делает Пеле…»