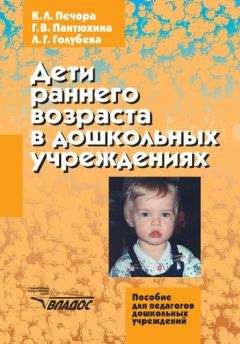Михаил Александров - Кожаные перчатки
— Видал, как Шаповаленко вымотался? — ликовал после боя Половиков. — Хоть веревки вей! Еще один такой бой, и бери его голыми руками!..
Я видел, как устал Шаповаленко. Но я не злорадствовал. Мне хотелось подойти к нему, поздравить с такой трудной победой.
Проходя мимо меня в раздевалку, Виталий остро, враждебно взглянул и даже не кивнул. Я раздумал поздравлять.
Второй день. В газетах — гимны Виталию Шаповаленко. Короткие интервью с именитыми гостями чемпионата.
Народный артист Ладыженский: старый друг Виталий еще раз продемонстрировал незаурядный драматический талант, он, Ладыженский, мечтал бы иметь такого партнера в трагедии.
Маститый писатель Саркис Саркисович: судьи похожи на нянюшек, каждый удар — тревога, суетня, оговоры. Как бы не превратился бокс… в преферанс? Он за семиунцевые перчатки, как у профессионалов.
Обо мне в газетах глухо. Легко победил наш подающий надежды…
Второй матч. Мой противник опытный украинский боксер Нефед Кацура.
И отказ после первого раунда. Такое впечатление, будто ветеран попробовал, каков парень, смекнул: тебе, видно, очень надо драться — валяй дерись, дело молодое, я не препятствую…
И после большого внутреннего напряжения — у меня апатия. Такое чувство, которое бывает, когда в поте лица грызешь орех, стараешься, а он, проклятый, пустой, разгрыз — там синий дымок и нет ничего больше.
— Везет нам, папочка, — потирал руки Половиков. — Очень прекрасно все складывается!
Я другого мнения. Меня пугает такое везение. Я стараюсь настроить себя на то, что теперь, завтра все начнется. Но настроиться трудно. Мальчишеское, скрытое даже от себя ликование нет-нет да окатит с головы до ног пугливой еще радостью. Половиков пронюхал, что у завтрашнего моего соперника рассечена бровь. Может, тогда без боя — в финал?.. И это тоже пугает, как что-то неотвратимое, подступившее вплотную.
После боя с Кацурой меня в раздевалке посетил Юрий Ильич. Вошел с папиросой, я, разгоряченный боем, яростно закашлялся от дыма. Юрий Ильич не обратил на это никакого внимания, уселся на стул, услужливо подставленный Половиковым. Мне надо было идти в душ, и я стоял перед Юрием Ильичом голый, с мочалкой и мылом в руке.
— В общем и целом — на уровне, — изрек Юрий Ильич, критически разглядывая мой пупок.
— Спасибо, — сказал я, думая, как бы половчее повернуться задом, чтобы не обидеть ненароком человека.
— Но резервы есть! — поднял палец Юрий Ильич. — Учтите это, товарищ Коноплев!
Я пожал плечами:
— Кто знает… Может, есть…
— Мы знаем, — посуровел Юрий Ильич. — Отмобилизуйтесь, говорю я вам… Понятно?
Может быть, совет был хорош. Боксеру все дают советы. Половиков тотчас подхватил:
— Золотые слова, Юрий Ильич! А я что только тебе говорил?
Не говорил он мне ничего подобного, пусть выслуживается перед начальством, не стану мешать. Немного резанул тон Юрия Ильича: смахивает вроде на разговор хозяйчика профессиональной боксерской конюшни. Там, наверное, так принято понукать боксеров: тяни, мол, жилы из себя, не то… В другое бы время дал я ему понять разницу, но сейчас неохота связываться. Старик вел себя с нами не так, тот был отцом и товарищем в трудные минуты…
У выхода мы опять столкнулись с Шаповаленко. Я заметил у него синие круги под глазами, нездоровый желтоватый цвет кожи. Он нервничал. Я слышал, как, протискиваясь сквозь толпу, он сказал сквозь зубы:
— Да отстаньте вы, к черту…
Меня встретили криками: «Давай, Коля!» Ко мне тянулись руки — похлопать по плечу. Я не знал еще, что надо делать. Хорошо, что Половиков был рядом:
— Пардончик, граждане! После, после…
Саркис Саркисович подвез нас на своей машине до вокзала. Добрый друг, он ни о чем не расспрашивал, ничего такого не говорил, что могло взволновать меня. Только напоследок сказал:
— Ждем. Ты знаешь. Мы все тут, в зале…
Мы тут в зале… Я всю дорогу сидел у замерзшего оконного стекла счастливый. Какая-то мелодия привязалась, подпевала в такт колесам: «Ждем… Ждем…» Мелодия все мешала мне сосредоточиться, даже не давала вспомнить — действительно я видел в толпе мелькнувшее лицо Арчила или это только померещилось?
Полуфинал едва не стоил мне всех надежд. В полуфинале я боксировал с Григорием Маркевичем, минчанином.
Уже по тому, как парень выскочил на ринг и принялся в своем углу приседать и дубасить перчатками канаты, я понял — даст бой.
Лихой это был боксер на ринге и прекрасный веселый товарищ. Мы потом стали с ним настоящими друзьями, и я очень любил, когда он, приезжая в Москву, останавливался у меня иногда на неделю, а то и больше. Мы с ним еще не раз дрались на ринге, дрались крепко, страстно. Но это нисколько не мешало нам до и после боя проводить вместе целые дни, сражаться по вечерам в шахматы, в общем, дружить. Была у него в характере удивительная бесшабашность, которая уживалась в то же время с жестким контролем над собой, внутренней дисциплиной, граничащей с осторожностью. Право, я не удивился, когда много позднее, в дни и ночи партизанщины, встретил бородатого разведчика, о котором ходили легенды, и узнал в этой грозной бороде друга Гришку.
Но это позднее. Тогда, на ринге, мы смерили друг друга глазами. Он был мой ровесник или, может, на годок постарше. Мы, наверное, здорово походили на боевых петухов, готовых вцепиться друг другу в гребни. Помню, как меня поразило и озлило, когда Григорий, чинно пожимая мне, по ритуалу, руку, шепнул ласково с улыбкой:
— Ложись, мальчик, не то бить буду…
У него была наклейка на правой брови. Значит, бровь действительно разбита. В боксе это большая беда. Малейший удар — и наклейка летит, и ранка, разбереженная, начинает кровоточить. Судьи прекращают поединок. Победителем признается соперник — он ведь может продолжать борьбу.
— Сразу бей в бровь! — заявил Половиков. Голос его звучал сладострастно.
— Как — в бровь? — оторопел я. — Она же у него больная.
— Бей, тебе говорят, и дело с концом: в финале!
— И не подумаю… Я что — живодер?
— Здравствуйте! — развел руками Половиков. — Тоже еще интеллигент нашелся… Он тебя поцелует!
— И пускай…
— Бей, говорю, в бровь, горюшко!
— Нет…
Лихорадка боя еще до гонга трепала меня. Кажется, именно тогда, в тот вечер во мне проснулся боксер. Озорная романтика хлесткого и беспощадного поединка, которую я предчувствовал, наэлектризованность переполненного зала, словно излучавшего голубые искры азарта, затаенная, но уже вполне ощутимая уверенность в том, что близок, близок финал, — все это наполняло такой жаждой боя, что у меня высохли губы, рот. Я переминался в углу ринга, охваченный жаром.
— Бей в бровь!
— Нет!
— Брось дурить, бей!!
— Нет…
Мы были с Григорием почти одного роста. Похожи сложением. Одна надежда владела нами.
Гонг!
И в первое же мгновение боя судья на ринге кричит:
— Брек!
Наши руки в волевом порыве — атаковать сплелись, мы глухо стукнулись лбами. Я ахнул, подумав, что боднул парня в больную бровь.
— Брек! Брек!
Наклейка была на месте. И пока я, вытянув шею, разглядывал, цела ли проклятая бровь, Григорий серией великолепных ударов, с переводом: корпус, голова, корпус, снова голова потряс меня, отбросил. Я, потеряв равновесие, шатнулся. Ушел в глухую защиту. Я услышал голос судьи, команду: «В угол!» И, решив, что это относится ко мне, отбежал в угол. Зал грохнул смехом. В тот же угол отскочил Маркевич. Мы ошалело глядели друг на друга. Зал потешался вволю. Судья бросился к нам, указал Григорию на противоположный угол. И начал размашисто отсчитывать секунды перед моим носом.
Как так? В растерянности я вступил было с судьей в переговоры:
— За что?
— Молчите!
Из угла кричал Половиков, исступленно выкатив глаза, чуть не по пояс высунувшись на ринг:
— Бровь, подлец, бровь!
Я видел, как он схватился за голову, потряс ею, будто отгонял шмелей, зачем-то схватил ведерко с водой, отбежал, вернулся.
Я вышел из транса. Горькая обида судейской ошибки больно хлестнула. Нокдаун много значит для тех, кто сидит с бланками судейских записок по бокам ринга, взвешивая поединок. Что могло теперь спасти положение? В какой-то хаотический клубок сбились огни и лица, обрывки фраз, чей-то женский испуганный вскрик… Нокдауна не было, не было. А бой поставлен на зыбкое острие случая: теперь глаза судей будут неотрывно следить за мной, каждый пропущенный удар вырастет в беду…
Ну, подожди же! Едва судья на ринге опустил руку, сказал нерешительно, как мне показалось: «Бой!» — я потерял всякое представление об осторожности, забыл в защите, маневрах, обо всем на свете. Я помнил только об одном — надо переломить бой, теснить, бить… Наплевать на то, что может случиться! Все равно кончится все, если я не сумею вырвать, выхватить зубами победу…