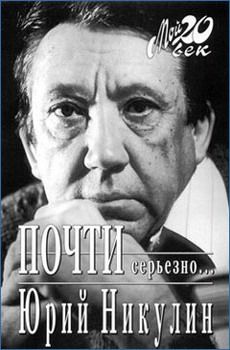Юрий Власов - Соленые радости
Мышцы спины выделялись своей чуткостью и определенностью. Каждая вырывалась из наслоений и узлов других мышц. И в то же время все они, переплетаясь, составляли единое целое. Обширный клин трапиецевидной мышцы закрывал почти всю верхнюю часть спины. Лениво и мощно обтекал этот клин лопатки. Широчайшие мышцы спины косо обхватывали спину снизу, круто крепясь к позвоночнику. Вдохновением силы дышали эти мышцы. Жарко и хмельно настаивались силой.
Я не знаю атлета, который входил бы в спортивную форму скорее и проще Сашки. Я не знаю атлета легкомысленнее, чем он, в своих тренировках.
Любое преимущество над соперниками можно перевести во время. Время, необходимое для того, чтобы набрать силу и устранить, таким образом, разницу в результатах, и есть сила, как бы выраженная в иной системе измерения. Ты первый до тех пор, пока не дашь смотать эту разницу во времени. Ты гонишь себя по тренировкам. Ты уплотняешь время, накапливаешь крохи времени. Ты обращаешь время в мощь мускулов.
И после ты не теряешь силу. Ты просто начинаешь не укладываться в ритм борьбы. У тебя еще много сил, и мышечная ткань восприимчива к нагрузкам, но из борьбы тебя выбрасывает ее ритм. Своими экспериментами я выиграл у соперников годы тренировок. Я не смею забывать о тренировках. Я ищу тренировки. Я уплотняю тренировки. Впереди тот, кто выигрывает у времени.
Сашка дорого заплатил за пренебрежение этой истиной. Он дал смотать время своего преимущества соперникам. Потом не сумел повести борьбу на равных.
Уже на своем третьем чемпионате мира его почти достал болгарин Асен Тончев. В Берлине Сашка выиграл только по весу. А на игры в Мехико вместо него поехал Анатолий Тучнин. Чемпионом же стал Иоганн Фест из ФРГ.
Поречьев находит меня в сквере в двух кварталах от гостиницы. Он еще издали показывает большой палец. Я улыбаюсь. Я должен выглядеть как чемпион. Чемпионы не сомневаются.
Я рисую щепкой узоры. Я рассказываю о старом Китае, о сословных различиях в городском строительстве. Члены императорской фамилии имели право нафундамент для дворцов не выше трех с половиной метров, крыши зеленого цвета, каменные перила для лестниц, специальную резьбу ворот и пятипалых каменных драконов. У высшей титулованной знати фундамент построек был значительно ниже. Резьба не должна была походить на резьбу, установленную законом для императорской фамилии. Каменные драконы были четырехпалыми. Крыши окрашивались в иной цвет.
Символ императора – дракон, императрицы – птица феникс. Европейцы прозвали служилое китайское сословие шэньши – мандаринами. Правда, не все шэньши служили. Шэньши – это сугубо ученое сословие. Слово «мандарин» происходит от португальского «мандар» - управлять, повелевать…
Делаю вид, что увлечен. Набрасываю иероглифы-пиктограммы. Объясняю древний графический смысл…
– Толь тебя расспрашивал? – перебивает меня Поречьев.
– Да.
– Снова о тренировке?
– Да.
– Ты знаешь цену своему труду. Не роняй себя. Для всех простота и доступность – признак слабости. Будь скупым на слово. Надо уметь подать себя. Ты чемпион!
За чугунной изгородью пыхтят автомобили. Кора на деревьях свежа. Лужи без единой морщинки – глянцевито разглаженные. В бензиновом чаде запахи весны: раскисшей земли, лопающихся почек, далеких растопленных снегов.
Все, что говорит Поречьев, знаю наперед. Выслушиваю каждый раз перед большими соревнованиями. Конечно, чемпион выше сомнений.
Поречьев суров, но в его поведении своя логика: разве слова участия делают тяжести легче? Да и сам я не лучше отношусь к себе. Это примиряет меня с ним. Почти примиряет. Ведь его суровость особенная. Она обращена на меня. Только на меня. А я считаю, что риск должен быть равный. Жестокость, если она необходима, прежде всего должна замыкаться на том, кто сам жесток. Иначе ложь. В главном ложь.
Пусть жестокость! Высшее напряжение воли и ее проявление – готовность разрушить самого себя! Моя вера! Моя!..
Поиски содержания, возможных форм содержания, извлечение нужной формы из этого содержания – всегда испытание. А как иначе познавать мир? Как, если мир не только испытание на крепость мускулов?..
Вытягиваю ладонь. Дождевая изморозь ложится в ладонь. Во всех днях полынная горечь бессилия. Не выстою, все, что узнал, пропадет.
А как выстоять, если «железо» мертво? Если не могу оживить «железо»? Если хочу одного: забыться, выжить… Что ж, беречь себя, лелеять, выхаживать?..
И теперь мне надо быть еще беспощадней. Превратиться в инструмент воли. Иначе предам свое дело. Выстой – иначе вечная опора в других, зависимость от всех прочих опор. В жестокости к себе мое исцеление.
Щерится безглазое отчаяние. Что со мной? Если невмоготу – молчи, зажми сердце! Иди, не оглядывайся! Иди! Не бойся потерять себя! Ищи себя. Не уступай!
– …Тебя ждут верных восемь-десять лет побед. – Поречьев наклоняется ко мне. – Возраст уступит таланту силы. Тебе нет равных…
Я лежу на диване. Поречьев ощупывает мои плечи. Потом приседает и начинает ритмично массировать мои ноги. На его висках вспухают капельки пота. Он искусен в шведском массаже, но, как все тяжелоатлеты, не вынослив.
О моих соперниках Поречьев невысокого мнения, даже о Бене Харкинсе, когда тот выступал. Сейчас Поречьев признает кое-какие достоинства Харкинса. Но всех других не ставит ни в грош. Мне приходится иной раз и выкручиваться из-за этого перед репортерами. Он не считает нужным это скрывать. И вообще мой тренер обладает исключительным даром наживать себе врагов.
Поречьев вытирает платком лоб. Снова наклоняется надо мной. Вижу его перебитую переносицу, седоватую щетину на подбородке и короткую шею, вросшую в покатые трапециевидные мышцы. Шея в глубоких морщинах, будто выложена буроватыми плитками. Он покряхтывает и время от времени одобрительно шлепает ладонями по моим бедрам. Там мощные многослойные мышцы. На специальном станке-силомере я вытягивал ими много больше тонны.
Поречьев встает:
– Может, заснешь?
– Нет.
– А может, заснешь?..
– Нет.
– А курят здесь! – Поречьев идет к двери. – Женщины, подростки! Я бы этот табак к черту запретил!..
В новом дне ни радости, ни облегчения. Разве время исцеляет?..
Я атлет, который завтра должен попытаться взять рекорд. Я атлет – и это все. А сейчас время покоя для мышц. Надо лежать.
Зачем дурачить себя? Какой рекорд? Я не сплю. Я ослаб от потери веса. Я измотан турне. Я в лихорадке…
Люди… Мы сходимся в залах. Слышу их речь. Отвечаю, спорю, смеюсь, пожимаю руки. Сколько же рук! Но понять друг друга не можем. Почему?! Что изменилось?! Или я все выдумал?..
Устал от всех слов. Скучен себе. Скучен… Как Коптев. Этот преподаватель истории в школе вызывал у меня непреодолимое желание спать. Вся история в его толковании была скучнейшей моралью. Историю он с каким-то поповским елеем в голосе называл «матушкой». В изложении Коптева она сводилась к тому, что сами мы мало стоим, но, слава богу, на свете есть «мудрые люди, которые думают вместо нас, уже с пеленок способные люди».
Я не удивился, когда узнал, что Коптева выгнали из школы. Он спекулировал старинной бронзой. Погодя узнал, что он и не кончал Московский университет. Настоящее его «образование» – штаб-ротмистр. Диплом ему выправил Сима – знаменитый подделыватель ценных бумаг и документов, которого, несмотря на еврейскую кровь, ценили белогвардейская охранка и ОСВАГ. Сам Антон Иванович Деникин распорядился на счёт безопасности Симы. Все это потом выяснилось на суде, и кое-что напечатали газеты. А шефом Симы был Коптев…
Шаги в коридоре, жужжание лифтовой машины. Шум дождя за окном. Дожди опоили землю.
«Ты здоров, – убеждаю я себя. – Ты не знал, что усталость бывает такой. Это все фокусы усталости. Ты же избрал девизом слова Поля Валери: «Человеческий дух безумен, потому что он ищет, он велик, потому что находит…» Ты жил словами, смысл которых не понимал. Теперь ты познал тяжесть слов».
Я внезапно до мельчайших подробностей вспоминаю свой первый чемпионат мира, потом надменное лицо Харкинса, повадки Харкинса – хозяина силы, его молчаливость, от которой становилось не по себе, он умел молчать.
Вспоминаю пискливый голосок моего первого тренера. Я быстро вырос. Через два года он уже ничего не мог дать. К тому же он подрабатывал в другом клубе, и я часто тренировался без него. Я люблю тренировки. И я ушел.
До сих пор помню тепловатый пыльный воздух того зала. Когда я оставался один, выключали большой свет. Стены уходили в сумрак. В окнах поднимались старые липы. Я слышал свое дыхание, скрип канифоли, позвякивание дисков.
Эти вечерние тренировки съедали сон. Я поздно засыпал. Но ради приятной боли крепнущих мышц, азарта поединков я был готов на все.
Нет, я не болею. Я просто не знал себя.
Теодоро Муньони стал бы не менее знаменит, чем Мунтерс, если бы не Сашка Каменев. Он накрыл Муньони на чемпионате в Софии пять лет назад. Это были самые долгие в истории тяжелой атлетики соревнования. В восемь вечера атлеты вышли на парад представления. В шестом часу утра Сашка выполнил последний подход.