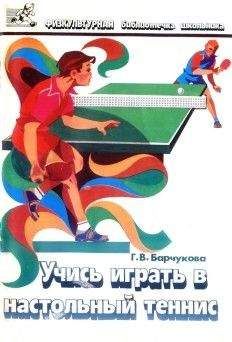Поль Виалар - Пять сетов
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Второй сетА между тем он — на этой красной земле, на которой так напряженно трудится. Мячи от нее отскакивают, оставляя следы на его судьбе.
Он тут, у всех на виду.
Его имя у всех на устах.
Жан покидает свою сторону, подходит к вышке судьи, берет вторую ракетку, как будто эта замена может иметь какое-нибудь значение.
Он опрокидывает бутылку генеральной воды, полощет горло, смачивает грудь; большим пальцем проверяет мячи, которые предназначены для замены. И это он же идет прислониться к зеленому полотнищу, над которым, вероятно, находится Женевьева. Он не может оторвать от нее свои мысли.
Действительно ли она здесь? Мы не могли бы этого сказать. При всем желании мы бы ее не заметили, если, как это предполагает Жан, она скрывается на ступенях, в этой черной пасти входа. Взгляд ее должен скользить лишь по тому месту, где площадка разрезается линией подачи, к которой подходит Жан, так как подача Рейнольда.
Первый мяч американца не проходит. Второй — не такой стремительный. Жан отражает его. Он делает это привычным свободным движением. И в силу все той же, раз и навсегда укоренившейся привычки направляет его вдоль коридора по наиболее отдаленной от него белой линии, возле которой мяч и ударяется. Жан играет, как автомат; он все еще находится в состоянии раздвоенности, ибо не в силах отвлечься от своих мыслей и догадок, хотя и знает, что это необходимо.
«Я проиграл первый сет. А ведь я мог его выиграть! Быть может, Рейнольд и проворнее меня. Вероятно, он и привычнее к соревнованиям, в особенности на этот Кубок, являющийся наивысшим трофеем в теннисе и завоеванию которого все страны придают такое значение. Что до меня, я хорошо знаю, какую ответственность взял на себя, согласившись — с какой гордостью и радостью! — отстаивать честь нашей страны, наши интересы. Ибо я не скрываю от себя, что интересы эти очень возвышенны. Речь ведь идет не только о моей личной победе. Впрочем, мне удается нечто большее, чем Рейнольду. Моментами ко мне приходит вдохновение, я достигаю того высшего уровня, на котором превосхожу его. Доказательство этому я имел на протяжении трех партий, когда он был у меня в руках...»
Жан предается всем этим размышлениям в то время, как должен бы опираться лишь на свои наблюдения. Наблюдения эти — основа математической уверенности— должны управлять его поведением.
Но Жан не может уйти от своих мыслей, ибо от него зависит общий результат — не только торжество или поражение нашей страны, но и поражение или победа, которая, решит его судьбу.
«С четверга, с того дня, как я расстался с ней на тротуаре, перед баром, я в точности знаю, чем Женевьева является для меня. Правда, я предчувствовал это и раньше. Но никогда еще не сознавал этого с такой ясностью. Я знаю, что не смогу жить без нее. И это не романтика, свойственная моему возрасту, ибо я прожил трудную, суровую жизнь, и не в моей привычке лгать самому себе. Если я потеряю Женевьеву, я пропал. Я хорошо отдаю себе отчет в этом. Стоит мне подумать, что она является ставкой в этой игре,— и я перестаю быть самим собой. Это выбивает из равновесия, лишает собранности. Весьма вероятно, человек силен лишь в радости. Во всяком случае, мне тревога не на пользу. Вероятно, оттого, что я знаю цену тому, ради чего сегодня играю, меня бросает в дрожь при мысли оказаться побежденным.
Что, если я проиграю? Женевьева без меня уедет в Австралию. Путешествие продолжится три месяца, а Рафаэль будет сопровождать ее. Я знаю, что она может, должна любить, вероятно, любит меня. Но она... она этого еще не сознает. В ее годы девушки хуже разбираются в своих чувствах, чем мы, мужчины. Пока не дала слова или не отдала своего тела, пока не убедила себя в том, что любит, девушка остается в нерешительности, колеблется. Жажда любви подчас приводит к тому, что человек хватается лишь за ее видимость. Если Женевьева отправится в Австралию без меня, она потеряна для меня навсегда...»
Он возвращается к этому снова и снова. Эта навязчивая мысль овладевает им настолько, что, желая во что бы то ни стало выиграть, он становится безоружным.
Жан не принадлежит к числу «прославленных». Конечно, он польщен, когда видит свое имя напечатанным большими буквами в газете, когда читает все то, что пишут о его «гениальности». Но он сумел бы принять и поражение, примириться с ним. Его самолюбие не страдало бы. Не для того он играет, чтобы тешить свое тщеславие.
Но эта игра и не должна была бы стать для него делом жизни; ставкой в игре не должна была бы являться и любовь, от которой зависит его существование. Именно это путает все.
Он уподобляется людям, которым блестяще удаются чужие дела. Но стоит им рискнуть собственной незначительнейшей суммой для какой-нибудь спекуляции, как они перестают здраво мыслить, беспорядочно продают или покупают что попало и в конце концов прогорают. Если таким людям дать ценный фарфор или дорогую вазу, они ловко и крепко держат их в руках. Но стоит внезапно сказать им: «Это ваше!»,— как, внезапно осознав значение, которое вещь приобрела для них, они теряют хладнокровие и самообладание. Драгоценная вещица падает и разбивается.
Так и Жан дал выиграть у себя последнюю игру предыдущего сета и весь сет. Это еще не столь важно. Но в начинающемся втором сете эту потерю надо поскорее наверстать. И хотя Жан старается образумить себя, вернуть себе самообладание, в него как бы вселилась непреоборимая тревога, которая расслабляет, парализует его. Женевьева! Женевьева! Между тем он хорошо знает — убедился в этом только что, на столь горьком опыте,— что, лишь одержав необходимую победу над самим собой, вернет себе самообладание.
Встреча в теннисе — это вам не беллетристика. Здесь имеешь дело с цифрами. Все подытоживается неумолимо.
Надо перестать думать о Женевьеве, как это ему удалось уже один раз. Так нужно.
Но ему не удается забыть о ней, и борьба с самим собой изнуряет его. Между тем минуты текут, очки разыгрываются и накапливаются не в его пользу. Странная, ужасная слабость овладевает им. На глаза наворачиваются слезы. Он не в состоянии справиться с собой. Внезапно жгучая ревность примешивается к его чувствам. Он видит Женевьеву, видит, как если бы она стояла здесь, против него. Рафаэль сжимает ее в своих объятиях, улыбается ей своей нелепой мордой красавчика, по которой он с жестокой радостью так бы и заехал! Перед ним возникают другие, еще более отчетливые видения...
Жан подает. Но что ему до того, что этот мяч «за» и второй тоже! Женевьева — в объятиях Рафаэля!
На трибунах кто-то свистит. Толпа отвернулась от него. Раньше она поддерживала его, а теперь относится с презрением, освистывает. Толпа догадывается, что ошиблась в нем.
— Счет во втором сете 2:0! Ведет Рейнольд.
Вот он, Рейнольд. Он выглядит теперь уверенным в себе; Рейнольду как будто вовсе не жарко, в то время как пот градом катится с Жана, струится под мышками и по груди. Ветер остужает с боков. Как хотелось бы суметь возненавидеть Рейнольда! Но для этого надо, чтобы он был иной, не этот совершенный игрок, не этот джентльмен, который выигрывает в данный момент по ту сторону сетки. Для этого надо, чтобы это был Рафаэль!
Рафаэль! Но ведь и в самом деле, это против него сражается Жан. Это он сейчас принимает от мальчика мячи! Рафаэль! Рафаэль!
Пусть подает Рафаэль, и все увидят, что будет!
Противник оборачивается.
Подает.
Перед Жаном встает напряженное лицо Рейнольда. Стиль — его, стремительный мяч— его. Но это Рафаэль!
Тот самый Рафаэль, который только что держал в своих объятиях Женевьеву.
Это против Рафаэля Жан направляет сильно срезанный мяч, который падает на заднюю линию, ввинчивается со всей приданной ему силой вращения, казалось, вдавливается в землю, в белую черту, на которой оставляет след.
Жан с упорством, но и со злобой, стискивает челюсти. Он устремляется к возвращающемуся мячу, выходит к сетке, перехватывает с лета. Все его решения внезапно принимают конкретную форму: во-первых, во что бы то ни стало быстрота; во-вторых, яростные удары, причиняющие боль. Я ему покажу, Рафаэлю!
Толпа вскочила.
Она неистовствует.
И пусть Женевьева находится на трибуне. Что ему до того теперь! Наоборот, пусть видит, как он расправляется с Рафаэлем.
Противник не выдерживает. Он выбит из колеи. Он отступает. А ведь только что он был уверен в своей победе. Это явственно можно было прочесть на его лице. Теперь он защищает свою жизнь. Ну да, он тоже сражается за свою жизнь! Каждый — за свою жизнь!
Одна игра за жизнь Жана выиграна.
А теперь его подача!
Но сначала, для большей уверенности, немного живительной силы. Она у него тут, в запасе, в кармане трусов, в виде маленьких беленьких кубиков.
Украдкой он кладет кусок сахара в рот.