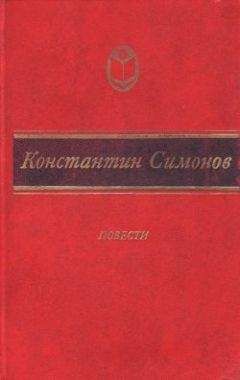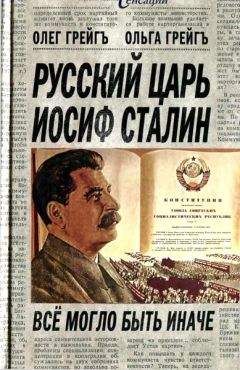Анатолий Голубев - Убежать от себя
«Уважительный человек! Не похож на рвача-горлопана».
– Посмотрим, посмотрим, как делаешь. Обязательно. Но только явился ты не вовремя. Прости, как кличут?
– Николаем Кузьмичом…
– Так вот, Николай Кузьмич, приходи-ка через недельку. Если сможешь – лучше под вечерок! Мы с тобой дом неспешно обойдем, все прикинем, засметим… А потом за бутылочкой – прямо на свежем воздухе – и обсудим. Договоримся – за работу! Не сойдемся – не обессудь! Я ведь тоже деньги не на машинке печатаю!
Рябов с интересом рассматривал своего сверстника, прикидывая, действительно ли тот не знает, с кем говорит, или его ничего, кроме дела, не волнует. Но сидевший, похоже, если и знал фамилию хозяина, совсем не интересовался спортом. Редко приходилось Борису Александровичу встречать в жизни столь чистых от хоккея людей.
Проводив плотника до калитки, запер ее снова и выпустил Кнопку с террасы. Она кинулась к калитке, тявкнув вдогонку несколько раз, как бы подтверждая неизменность своей прошлой точки зрения на незаконность появления чужого человека.
Рябов в дом не пошел. Зашагал по дорожке сада, исподлобья поглядывая вокруг.
Утром, в романтическом свете нарождавшегося дня, многие недоделки были скрыты от глаза, но сейчас, выявленные ярким солнечным светом, так и взывали хозяина к работе.
«Невпроворот тут дел… Хорош дом собственный, но хлопот полон рот. Не скоро из этого хомута вырвешься… Забор править. Дорожки мостить. Крыльцо…»
Он сел на скамью. Высоко над городом тянулась стая гусей. Тянулась молча, будто плыла по экрану эпохи немого кино. И что-то далекое-далекое вспомнилось Рябову. Он даже затаил дыхание, чтобы с дыханием не ушло это неясное ощущение, вызванное памятью чувств…
10
Весь птичий мир Борька Рябов, по кличке Рябчик, делил пополам: в одной половине у него были дикие гуси, в другой – все остальные птицы, включая рябчиков, которых никогда не видел, но которым был обязан своей кличкой. Некоторых птиц бил из рогатки, вызывая ярость дворовых девчонок, открытое осуждение матери и зависть сверстников, поскольку рогатку имел первоклассную: из красной резины, выпрошенной у шофера грузовика, остановившегося напротив дома.
О существовании гусей он узнал не из сказки Андерсена. Так случилось, что в детстве ему было не до сказок: мать осталась одна, без мужа, а ртов четверо, и сказку вполне заменял простой и обильный обед, от которого приятно дулось пузо.
Семья Рябовых жила на Чистых прудах. И в то позднее осеннее утро тихая водная гладь впервые подернулась тонкой черной пленкой льда. Борька выскочил первым из дворовых попробовать, насколько крепка ледяная броня. Приятель, Вовик из семнадцатой квартиры, которому только что купили новые коньки, обещал поделиться, как только станет лед. И наверно, Борька ждал этот лед куда с большим нетерпением, чем Вовик: коньки лежали у хозяина, сверкающие, настоящие снегурки, а обещание дать попробовать покататься и ему, Рябчику, могло растаять, как дважды до полудня уже таял по закраинам пруда тонкий ледок.
Борька подбежал к берегу и, нагнувшись, поднял голыш. Пустил его, низко присев. Камень не ударил по льду, а как бы высек звон и, отрикошетив пару раз, заскользил к далекому противоположному берегу.
«Держится! А если в верхотуру попробовать? Да подальше!»
Борька поднял голыш покрупнее и кинул в небо. Камень долетел почти до середины пруда и, громко хлюпнув, пробил лед. В раннем утреннем воздухе хлопающий звук как бы воспарил к небу, туда, откуда упал голыш. Борьке почудилось, что звук этот, идущий теперь сверху, не только не заглох, но вырос, стал гуще и пронзительнее.
Он задрал голову и увидел в небе крупных птиц, какими они показались ему снизу. Стая летела вдоль бульвара, высоко и как будто медленно. Крик незнакомых птиц наполнял пустынный бульвар. Борьке стало вдруг так тоскливо-возвышенно. А впрочем, даже позднее, как бы живя с этим гусиным криком, несшимся из детства, он так и не мог точно определить чувство, охватившее его в тот момент. Каждый раз, когда вспоминал гортанные звуки, летевшие с неба, они невольно накладывались на события более поздние. И если в минуту откровенности он рассказывал кому-то о своем детстве, невольно подражал тем звукам, будто кричал он, а не гуси. И было в том крике все, что суждено ему было пережить потом: и вечный призыв куда-то, и неудовлетворенность, и тревожное предызвестие о потерях будущих, о потерях, которые его огорчат и о которых он так и не узнает.
Для людей пожилых тающие в предутренней мгле гусиные крики звучат сладчайше, как теплое, греющее сердце воспоминание. Для молодых в гоготе – провокационный призыв к нескончаемым приключениям в пространстве и времени, которые так мало подвластны человеку, стоящему на земле, и так естественны для птиц, несущихся в небе.
Борька так никогда и не узнал, что говорили друг другу в то далекое утро большие птицы. Но, услышав их тогда, не мог оставаться равнодушным: каждой осенью и каждой весной – весной особенно – его тянуло ранним утром на пустые бульвары подслушать бормотание гусиной стаи. Но увы, то ли птицы больше не летали над городом, разраставшимся еще быстрее, чем тянулся вверх Борька, то ли с годами времени у него на такие подслушивания стало меньше – реже бывал дома. Но именно гусиным криком на рассвете рождена у него – Рябов был убежден – привычка вставать рано. Она – как бы непроходящее желание слышать гусиный крик.
Птицы налетали на него и потому казались все ниже и ниже. Одно мгновение будто зависли над ним. И крик их лился на землю, подобно щедрому осеннему дождю. Борьке, стоявшему с задранной головой на берегу пруда и дышавшему парком прямо в небо, казалось, что не будет конца этой музыке, что птицы никуда не полетят, а так и остановятся над ним.
Но они вдруг рванулись с места, будто испугавшись его, Борькиного, представления о зависнувших птицах. Подобно серым молниям, мелькнули за спиной, и, как проворно ни повернулся, лишь мгновение видел их, прежде чем сомкнутым, плотным строем стая скользнула за красную кромку школьной крыши.
Борька так и замер, с запрокинутой головой, недоуменно глядя в серое небо, сразу ставшее далеким и пустым.
На смену удивлению перед чудом пришло огорчение, острое до боли: он бессилен остановить этих птиц, сделать так, чтобы они остались с ним навсегда! И тогда он решил сделать особую рогатку. Она как бы сразу вытеснила из его мальчишеского воображения Вовкины коньки, вытеснила, конечно, ненадолго, пока он вновь их не увидел в Вовкиных руках.
– Лед – во! – Борька поднял большой палец, но Вовик недоверчиво покачал головой:
– Мамка запретила становиться на коньки. Говорит, лед треснет. Он, говорит, еще тонкий.
– А чего же ты их принес? -Борька ткнул пальцем на ворот Вовкиного ватника, из-за которого – немалый форс для всех – торчали коньки.
Вовка пожал плечами.
– Трусишь?! – с горящими глазами спросил Борька.– А я был на льду! Вон смотри – пыль со льда стер! Держит! – закончил он убежденно, но Вовка опять недоверчиво покачал головой.
– Дрейфишь? – поддразнивая, спросил Борька.
– И вовсе не дрейфлю! – обиженно ответил Вовка.– Только слово матери дал, что первым на лед не выйду.
– Давай я первым? – затаив дыхание, спросил Борька и не поверил своим ушам.
– «Давай»! А как утопнешь, что делать будешь? Мать с работы придет – всыпет!
– Не утопну, -уверенно повторил Борька, принимая из рук приятеля сверкающие коньки.
Прежде он никогда не катался на настоящих коньках.
Старший брат как-то сделал ему полозы – в палки вбил железные пластины. Борька крутил их к валенкам и гонял по снеговым укатанным дорогам, держась длинным проволочным крюком за «аннушку».
Прикручивая настоящие коньки, все боялся, что Вовик передумает. По глазам приятеля видел, что тот готов отобрать свои коньки, но, видно, слово, данное матери, а может быть, и страх перед неизведанным льдом удерживали. Борька, охваченный страхом, что останется без коньков, когда так близок к осуществлению заветной мечты, не думал, каков лед. Он бойко соскочил с берега на скользкую гладь, привычно уперся носками, чтобы оттолкнуться, но Вовкины коньки, в отличие от прямых острых углов самодельных, провернулись, и он грохнулся под хохот стоявшего на берегу и завидовавшего Вовика. Стыд подхлестнул Борьку, и он, вскочив, сделал два размашистых шага. В следующее мгновение холод обжег его с ног до головы. Последнее, что он успел сделать, – судорожно хватить показавшегося ему невероятно горячим воздуха. Испуганный Вовка с криком бросился бежать, а Борька, бултыхаясь, хватался за ломкие пластины льда, ставшего вдруг белым и скользким до неуловимости. Будто рыба, выброшенная на берег, хватал открытым ртом воздух, но не мог никак вздохнуть, потому как холод сдавил грудь и тяжелыми гирями повис на руках и ногах. В отчаянии перевернулся и неожиданно почувствовал под ногами землю. Когда встал, воды оказалось едва выше пояса.