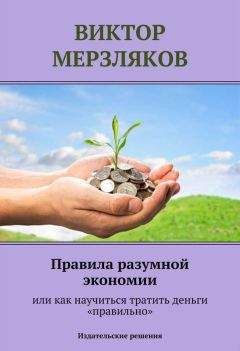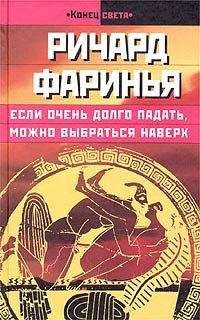Станислав Токарев - Каждый пятый

Обзор книги Станислав Токарев - Каждый пятый
Станислав Николаевич Токарев
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
Извечная вокзальная тревога — беспомощная. Говорят, близ Урала заносы. Да что близ Урала — рядом, за Сортировочной, всё замело. Состав подали поздно, он пятится, безголовый, вдоль перрона, а толпа уже всколыхнулась, вспенилась навстречу. «Па-а-аберегись!» — разбойно залились носильщики, орудуя тележками, как таранами.
Кречетов не медлил: взялся за углы ящика с боксом камеры, подсел, напрягся, выпрямился, и вот уже поплыла над шапками, кепками, шляпами, головными платками двугорбая, окованная сталью махина.
— Это же какая сила в человеке! — сказал Иванов.
— Если мне не изменяет память… — Берковский обвёл спутников озадаченным взглядом, — там не менее семидесяти кило.
— Изменяет, — уколол Сельчук. — Восемьдесят пять не хотите?
— Надорвётся, безумец!
Тут и Сельчук поудобнее взялся за металлическую ручку неподъёмного даже на вид чемодана.
— Послушайте, я уже поверил, что вы тоже чудо-богатырь, но что мы станем делать, если вы разобьёте сменную оптику? Постойте, — обратился он к присутствующим, — ведь стоимость переноски, вероятно, заложена в смету…
И услужливо подскочил было дедок с бляхой на чёрной казённой шинели. Но поздно — вернулся Кречетов. Румяный, победоносный — ядрёный банный пар валит из под распахнутой на крутой груди заграничной нейлоновой стёганки:
— Не мылься, земляк, мы сами физкультурники. Вадик — мне оптику, тебе — яуфы, Петровичу — штативы. Нет, нет, нет, Натан Григорьевич, вам не позволю. Это мы у вас стальные руки-крылья. А вы наш уважаемый пламенный мотор. Не откажите в любезности постеречь оставшееся. Тут делов-то на две ходки, и порядок.
То, что было задумано, всё исполнилось в срок: Кречетов ошеломил, обаял съёмочную группу.
Недавний, недолгий офицерский опыт: сам когда-то не ожидал, что с ходу, с лёту покорит и личный состав вверенного огневого взвода, и командование. Не только части, но и соединения.
Командование — когда прибыла новая усовершенствованная пушка и при опробовании принялась вдруг без удержу крутиться на станине. Останавливалась только если питание отключить, дура. Майоры и полковники судили-рядили, скребли дублёные потылицы. Звёзды-то на погонах выслужили в войну, пуляя из семидесятишестимиллиметровок; а сейчас бес разберёт, что у современной техники на электронном уме. Плюнули, пошли курить. Оставшись у орудия, выпускник зенитно-артиллерийского училища Кречетов открыл ЗИП, достал и наудачу заменил двойной диод. Пушка замерла, как миленькая. «Соображает выпускник», — переглянулись полковники.
Взвод был покорён на стрельбах. Палили в ту ночь на редкость неудачно. И всё по вине прожектористов, которые, суматошно шаря по дикому рваному небу, не могли, хоть убей, поймать злополучный конус. Одни залёт производил «Ил», волочивший в воздухе мишень (стрельба велась визуально, согласно вводной локатор вышел из строя), другой… пятый… шестой — последний. По рации гробовое: «Отставить огонь». Сочувственный вздох проносится по батареям, шелестят горячим песком: теперь бедолагам битый месяц тренироваться, жариться на адовой сковородке. Бедолаги, скрипя зубами, убийственно взирают на своего недотёпу-лейтенанта. Лейтенант клянёт недотёпу светилу, который ещё в училище портянку не мог наловчиться заматывать, и на тебе — свела с ним здесь судьба-индейка. Комбат предвкушает от комполка «неполное служебное соответствие» и готовится вынуть душу из комвзвода.
По рациям над полигоном: «Стреляет взвод Кречетова!» «Снаряды на лоток, готовность один!» Бах — мимо. Трах — мимо. И уже когда павший духом комбат затянул безнадёжное: «Отста-а…», в этот самый миг в перекрестье лучей жидко мелькнуло привидение в форме воронки, и прервал лейтенант роковую команду своей, отчаянной: «Огонь!»
Разом взлаяли глотки «каэсов».
Семь наводчиков изрешетили конус. Восьмой, лопух, от усердия едва не вмазал «Илу» в хвост. Семеро получили по пятёрке, восьмой — двойку, среднеарифметическое — четыре. «Смазать стволы!»
Так поняло подразделение, что командир не пальцем делан — с ним не пропадёшь.
«Пруха тебе, Толян, — говорил кто-нибудь из других лейтенантов, рассудительный аржаной простец. — Что у тебя десятилетка, что у меня, только я кончал в Нижней Муховатке, а где она, не только ты, облоно не знало, ты же — фу-ты ну-ты, Москва, столица мировой интеллигентности, вот и пруха». В этих речах не было неприязни, но покорность судьбе — и отчуждённость. Её нужно было побороть, чтобы не оказаться на отшибе. «Интеллигентность, Вася, от слова „интеллект“, по-нашему, „соображаловка“. Вопрос стоит: мозги у тебя под пилоткой или мякина. Маршал Жуков — военный гений, а с чего начинал? Два класса и коридор?» При этих словах лейтенанты принимались тормошить вихрастого уроженца Муховатки, зная за ним грех мечтательного честолюбия и боязнь щекотки: «Мала куча, верху дай!»
Весть о том, что новичок, без году педеля телекомментатор Кречетов пробил у начальства собственный сценарий трёхчастёвки, и не о важном событии международного или внутреннего значения, а всего-навсего о спортивном финале зимней спартакиады, получил под начало квалифицированнейшую творческую группу, выгрыз двухнедельную командировку, западногерманскую камеру «Аррифлекс», каких и на Шаболовке — раз-два и обчёлся, — плёнку в роскошном лимите один к десяти, заставила, кажется, слегка пошатнуться даже Шуховскую башню.
— Почту за честь, — сказал ему Берковский, обменявшись рукопожатием, церемонно склонив венозный голый лоб в нимбе редкой седины. Операторы в ту пору были баре, боги, их диктат держался на несовершенстве техники — не камеру влекли к объекту, напротив, объект к камере: «Правее. Нет, левее. Подальше. Нет, поближе. Ну и куда вы его поставили, голова же тыквой!» — Слушайте, — маэстро Берковский воззрился на комментатора ввиду собственной малорослости снизу и сбоку, сорочьим глазом, — может быть, вы энтузиаст? Феномен? Тогда сработаемся. Я работал с Дзигой Вертовым, вам это что-нибудь говорит?
Звукооператор Вадим Сельчук был Кречетову ровесник, но ветеран Шаболовки и член месткома. Внешне истый викинг, культивировал сходство ношением грубошёрстных свитеров с силуэтами оленей во всю грудобрюшную преграду.
— Связи? — спросил он лаконично и как равного.
Сила убеждения.
— Пора бы вам активней включаться в общественную жизнь.
Скромняга же, русский умелец Николай Петрович Иванов, супертехник, враз влюбился в комментатора на вокзале. Вот ведь не погнушался белы руки измарать, как некоторые. Да и денежки, которые могли за здорово живёшь перепасть живоглотам-носильщикам, не возразит, должно, употребить на более приятные статьи расхода.
Ужинали в купе, положив ноги на ящики — больше было некуда. Николай Петрович припас в дорогу банку груздей домашнего засола, пироги с картошкой и капустой; завёрнутые в вощёную бумагу, а поверх в чистую холщовую тряпицу, они были ещё тёплые. Натану Григорьевичу дочь нажарила котлет — с чесночком и согласно давнему, прабабушкиному рецепту с сыром, придававшим яству особую пикантность. Сельчук приобрёл языковой колбасы, имевшейся в продаже лишь в колбасной на углу Пушкинской улицы и Художественного проезда.
Кречетов о съестном не позаботился. С матерью они питались порознь. Когда-то, уходя на службу, она оставляла ему укутанную в старую шаль кастрюлю с твёрдо-скользкой, как мокрая мостовая, перловой кашей — но то в далёком прошлом. Деликатесы готовила некая женщина, всем поведением намекавшая, что вопрос надо решать. Командировка пришлась кстати ещё и потому, что откладывала вкрадчивые намёки и бурные выяснения отношений не только на время, означенное в приказе, но и на более длительный срок; возвращения вызывали в стосковавшейся женщине порыв страсти, тут уже не до выяснений.
Провожать? На вокзал?
— С цветами и поцелуями? А может, с бодрыми песнями? «Едем мы, друзья, в дальние края…»
— Какой ты жестокий! Ты же знаешь, во сколько я кончаю работу, а раньше меня не отпустят, а я, как дура, в свой обед, обегала все кулинарные.
— Положи покупки и холодильник, вернусь — закатим банкет. На две персоны.
— Честное слово?
— Под салютом всех вождей.
— Только вдвоём, и забудем о времени!
Брр…
Поездное радио бесстрастным баритоном долдонило: «…Каждый, кто посмотрит фильм „Застава Ильича“, скажет, что это неправда. Даже наиболее положительные из персонажей не являются олицетворением нашей замечательной молодёжи. Они показаны так, словно не знают, как им жить и к чему стремиться…»
— Вадим, выключите, пожалуйста, — попросил Берковский, осторожно подцепив чайной ложечкой груздь.
— Не выключается, — сказал Сельчук.
— Нет бы поставить двухпрограммный, — сказал Николай Петрович, — музычку бы послушали.