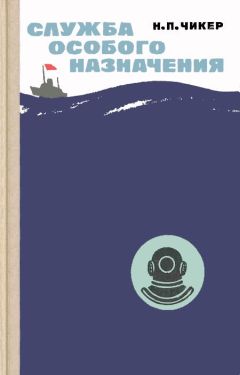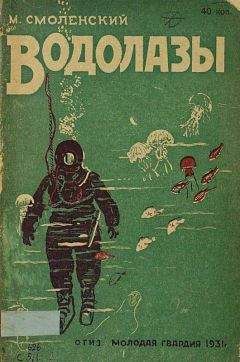Михаил Эпштейн - Отцовство
2
За последние годы, что я не один, я отвык сосредотачиваться на своем «я» — казалось, навсегда избавился от привычки к саморазглядыванию, которая преследовала меня в отрочестве и юности. В эти годы зрелости мое «я», зарастая жильем-быльем, жило в ладу с собой, и я радовался такому простому существованию, устремленному вверх, к плодоносящей кроне, а не вниз, к темным и сырым корням своего «я». Сейчас же меня вновь потянуло к первооснове, к вопросам о том, что само вопрошает, к томлению о том, что само томится. Естественный ход жизни, ранее уводивший меня в окружающий мир, теперь возвращает к себе. Родилось дитя, и жизнь моя начинается как бы заново, завершив полный круг — от рождения до рождения.
Еще недавно я был уверен, что только в старости захочу оглянуться назад, на свое прошлое. Но оказывается, что до собственной смерти есть еще рождение другого — столь же оборачивающее на себя, требующее самоосознания. Теперь вновь ко мне возвращается младенчество, детство, отрочество, все это я стану переживать по второму кругу, словно в замедленной съемке, позволяющей разглядеть и осмыслить то, что в первый раз было прожито впопыхах.
Тут само бытие раздвоилось на «меня» и «ее», и самосознание не разрушает, а, напротив, скрепляет его целостность. Как я могу понять Олю в ее настоящем и будущем, не возвращаясь к своему прошлому? Ведь если она изо всех сил растет, сближается со мною, то неужели я не пойду ей навстречу, не спущусь в доступные мне самые ранние слои своего детского опыта?
3
Поздний вечер. Я сижу рядом с Олей и стараюсь понять, о чем она думает, когда подолгу лежит в темноте с открытыми глазами. Мне-то скучно смотреть на вещи, досконально изученные при дневном освещении, но для нее этих вещей нет, а есть только сгущения и разрежения тьмы в тех местах, где они были днем. Не стекла шкафа там отсвечивают, а отсветы неподвижно парят в воздухе. Я пытаюсь увидеть комнату Олиным неузнающим взглядом, и комната исчезает, остается только скопище теней, призрачное пространство, состоящее из расплывов, зияний, уплотнений… Как будто мир перенесен на абстрактное полотно, где стерты знакомые очертания и остались только расплывчатые пятна и контуры. На эту картину, открывшуюся младенцу, можно смотреть бесконечно, она все время меняется, мерцает, как пламя, или колышется, как волна.
Вот и смотрит Оля долго-долго, не закрывая глаз, но застыв зрачками — как будто уже уснула. Однажды соседка, видя, как Оля замерла в коляске с открытыми глазами, так ответила на мою жалобу, что, дескать, никак не заснет, сколько ни убаюкивай: «Да ведь она уже спит!» Не знаю, правда ли это, но похоже на правду: ей, маленькой, и не нужна эта перегородка смеженных век, потому что мир для нее воочию так же расплывчат и зыбок, как для нас в сновидениях. Чтобы понять, о чем думает Оля, надо увидеть все глазами спящей — всматриваться в мир так, как мы смотрим в себя, в туманный рой видений. Миросозерцание как грезовидение.
4
Еще одно состояние, когда так же незаметно стирается грань между образом и реальностью, — болезнь. Не мучительная, страшная, а легкая, освобождающая, беспечная болезнь, которая соотносится с тяжелой, как сон — со смертью. От нее не умирают, а дольше спят, наяву чуточку бредят. Простуда, озноб, градусник, малина, чай, молоко. Во время такой болезни я чувствую возвращение детства, и мне особенно приятно, что мама рядом.
Да и сама по себе болезнь — рецидив детства, возвращение к той же стадии неготовости, когда организм еще не обособился от внешнего мира и потому так податлив и уязвим. Если сон есть размытость сознания, то болезнь — размытость тела: будь это заражение, нагноение, набухание, лихорадка — все равно контур снят, сдвинут, организм лишен суверенности и защиты. Тогда оголяется детское в человеке — то, что особенно нуждается в материнском тепле и покрове. Когда я болею, мама приобретает для меня такое же значение, какое имела в детстве: становится всеведущей, всемогущей, высоко стоит надо мной.
5
Я хочу добраться до первых своих воспоминаний, до той границы, где раньше всего застаю себя собой и где, быть может, теснее всего сближусь с Олей. Развернуть круто загнувшийся, туго слежавшийся свиток памяти.
Я знаю, что пережил в раннем детстве несколько достопамятных событий, в частности опрокинул на себя с плиты кастрюльку с кипящей кашей. След от ожога остался на моем виске, но не в моей памяти. Видимо, ребенку запоминается совсем не то, о чем ему впоследствии могут рассказать взрослые. Чем дольше живет человек, тем более чрезвычайны и необычны должны быть явления, западающие в его память, ибо слишком многое на его веку уже повторилось, сгладилось в опыте… У ребенка же еще нет этого обкатанного опыта, и самые обыденные вещи как раз и запоминаются — ярко и прочно. И наоборот, все чрезвычайное захватывает ребенка целиком, не оставляя никакого места самосознанию, взгляду со стороны. Этот жуткий ожог, от которого на полгода почернела половина моего лица, — ожог, столь памятный родителям, и не мог мне запомниться, ведь он стал частью меня самого.
Но то, что случается каждодневно, что ближе и привычнее всего, — то и запоминается: ты вдруг смотришь на все это как бы издалека, невовлеченным взглядом. Сколько раз мы видели это будто во сне — и вдруг просыпаешься и осознаешь: вот оно, само по себе. Каждое воспоминание пробуждает нас, и все наше возрастное развитие есть такое постепенное пробуждение… Вплоть до смерти, которая последними воспоминаниями подведет отрезвляющий итог всей жизни как сну, вместившему в себя много других снов.
И если детство есть нечто внутри себя, то не сон, как мне поначалу, из взрослого бдения, казалось, а самое раннее неумолимое пробуждение, с криком и слезами. Удивительно ли, что именно таково мое первое воспоминание?
6
Первое, что я помню (и помню твердо, с самого детства, а мои родители ничего такого не запомнили, слишком уж будничное событие), — это одно свое летнее пробуждение. Вьются занавески, поскрипывают рамы, воздушная тревога во всем доме, а я кричу и плачу навзрыд в своей кроватке — никто ко мне не подходит, и не знаю, сколько длится вокруг меня этот ветряной кавардак, такой бесцеремонный, угрожающий… Потом уже сижу на диване, и соседка Нина Викторовна успокаивает меня — протягивает мне тонкую желтую книжечку, на обложке которой нарисована девочка-замарашка со спущенным чулком. «Ах ты, девочка чумазая, где ты ножку так измазала?» Почему из всего множества событий именно это запомнилось мне?
Возможно, первое воспоминание, выводящее из младенческого забытья, уже откладывает отпечаток на всю сознательную жизнь. То, от чего отстранились мы, что запомнили, — не это ли, насущное и вместе с тем трудное для души, и составит предмет дальнейших исканий, сомнений, раздумий? Не стану распространяться, почему округлая доброта нашей соседки (по рассказам, она первая искупала меня — мама по неопытности боялась), почему шуршание, желтизна, гладкость этой тоненькой книжки, почему вид сбившегося чулка и измазанной пухлой ножки, — почему все это отложилось в раннем слое моего сознания и ясно просвечивает сквозь тысячи других слоев, задавая им общий рисунок. Объяснить это — значит понять, что из меня стало и почему я такой…
Теперь же меня больше всего занимает другая загадка: она олицетворяется не соседкой, не книжкой, не девочкой на обложке, а маленьким (годовалым? двухлетним?) мальчиком, первым воспоминанием которого стало это ветреное утро и страх пробуждения. Что мы можем знать о детстве изнутри, пока оно еще не успело перенестись в область воспоминаний? А если этого нам знать не дано, то по крайней мере первые воспоминания обозначают ту границу, когда мы еще и внутри детства, и уже за пределом его. Вот почему так хочется опять и опять прикасаться к этому дальнему краю памяти, даже и без надежды его «отогнуть».
7
Еще одно воспоминание, которое по давности соперничает с первым — то ли чуть раньше, то ли позже, но оба они решительно отстоят от всех других, более поздних и уже ясно относящихся к определенному времени. Это как горизонт, про который нельзя сказать, где он, — очевидно лишь, что он там, за всем, позади всего остального. Так и эти два воспоминания образуют горизонт моего «я», за который я не могу заглянуть.
Поздний вечер, я сплю в своей кроватке и вдруг просыпаюсь. Это папа тихо, крадучись, чтоб меня не разбудить, входит в комнату; а я открываю глаза и гляжу на потолок, по которому бегают светлые полосы от проносящихся под окном автомобилей. Окна нашего пятого этажа выходят на оживленную магистраль, и оттого вся комната днем пронизана гулом города, а ночью — вот эти полосы… Набегая друг на друга, они проносятся по темному потолку, и трудно оторвать глаза от этого непрестанного, завораживающе-однообразного мельканья.