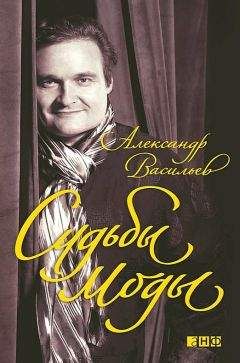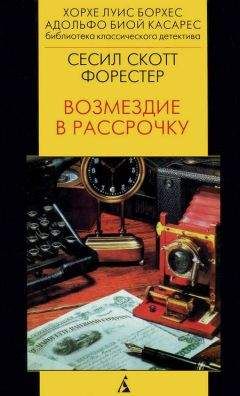Сесил Битон - Зеркало моды
Столь же безудержную активность развили в то время модные декораторы. Интерьеры ночных клубов стали оформлять в виде птичьих клеток, к роскошным предметам поздневикторианской эпохи добавились неумеренные барочные излишества из гипса. В особом почете были малиновые и конфетно-розовые оттенки.
Поэтому, несмотря на угнетающую атмосферу кризиса, в 30-е годы жизнь играла красками и была богата на открытия. Так, именно в эту эпоху мода, во многом благодаря Дали, Пикассо и Берару, тесно сблизилась с живописью.
Оказал влияние на моду и художник-мистик Павел Челищев. Мода легко перенимала образный язык, которым оперировал, скажем, Берар; язык картин Челищева моде полностью противоречил. Тем более поразительно, что благодаря челищевским декорациям и костюмам к балету «Ундина» по Жану Жироду появились новые модные веяния: стали популярны рыбацкие сети, пещерные сталактиты, коралловые ветки и живописные коряги. Впрочем, эта чарующе-загадочная театральная атрибутика в реальной жизни оказалась не востребована: на шикарной дубовой лестнице особняка в Уилтшире рыбацкая сеть была неуместна. Но проникновение искусства в моду продолжалось; в челищевских интерьерах теперь снимали Георгий Гойнинген-Гюне, Джордж Платт Лайне, Хорст, Дурст и ваш покорный беспутный слуга. Мы рисовали утрированную картину нищеты, фотографируя детей в лохмотьях, источником вдохновения нам служили романтические портреты нищих Челищева и бераровские крестьяне из Ле-Нена.
Театральное искусство 30-х годов столь плодотворно, конечно, не было, однако в «Олд-Вике», расположенном в Лондоне на Ватерлоо-роуд, в то время давали спектакли яркие и прогрессивные. Джон Гилгуд воспитывал у публики любовь к классике – впервые знакомил с Чеховым, заново – с Уэбстером, вдыхал новую жизнь в шекспировские шедевры. Он был яркой личностью, обладал голосом необычайной силы и широты диапазона, и на великолепные постановки с его участием публика буквально валом валила. Кроме того, Гилгуд украсил своей игрой пьесу Доди Смит, понравившуюся если не всей искушенной лондонской публике, то по крайней мере завсегдатаям утренних спектаклей. В целом же лондонцев вполне устраивал театральный репертуар из салонных комедий и семейных драм, скроенных по старым лекалам, потускневших, неостроумных. В плане зрелищности театр также был малоинтересен, первоклассными декораторскими работами могли похвастать лишь постановщики балетов.
На нью-йоркской сцене шла опера «Порги и Бесс», Лилиан Хеллман дебютировала с «Детским часом», начинали карьеру Клиффорд Одетс и «Групповой театр» – труппа, на членов которой впоследствии обрушился шквал критики за левые убеждения. В 30-е годы оформился и окреп театральный жанр музыкальной комедии; под его влиянием и массовая песенная культура постепенно становилась все более рафинированной. В свете влияния на культуру 30-х, а также последующих эпох следует отметить добрым словом тогдашних гениев поп-музыки, благодаря которым она приняла современные черты; одним из таких гениев был Коул Портер.
Говоря о 30-х годах, люди нередко вспоминают едкое высказывание Ноэля Кауарда, прозвучавшее в пьесе «Частная жизнь», – о том, каким удивительным могуществом наделена дешевая музыка. Как и фасоны одежды, популярные песенки – сиюминутное воплощение духа времени. Но было бы несправедливо считать любые однодневные художественные формы «дешевкой». Странно, если бы кто-то в столь нелестных выражениях отозвался о платьях Пуаре, Ворта или Дусе: созданные ими наряды, выйдя из моды, превратились в обычные театральные костюмы, связанные с определенной исторической эпохой и чуждые нашему времени. Так же дело обстоит и с песнями: и модные шлягеры, и модные фасоны, пользуясь словами из эпитафии на могиле поэта Китса, «написаны по воде».
Наверно, дело в свойственной им удивительной зыбкости, легкости, проявляющейся в их форме, и в остром осознании уникальности момента, который пройдет и уже никогда не вернется. Есть что-то мистическое в том, как популярная песенка моментально доносит до нас эмоцию своей эпохи. Она, как губка, способна впитать огромный объем, целый океан памяти.
Среди композиторов, чьему таланту новейшая поп-культура обязана всем, непревзойденными, блестящими достижениями может похвастаться только Коул Портер. 25 лет творчества, пришедшиеся и на 20-е, и на 30-е, и на более поздние годы, отмечены стабильно талантливой музыкой и стихами. С пришествием Портера поп-музыка обрела утонченность и ум, прежде ей совершенно несвойственные. Путем соединения заунывных, в основном минорных, мелодий, сухих, трезвых, как содовая вода, гармоний и пунктирного ритма ему удалось поднять настоящую бурю, причем бурю особую, утонченную по своей природе. Коул Портер был сродни большому ученому или философу, которому вдруг захотелось пошалить, как «анфан террибль»; он начал в остроумной и притягательной форме рассказывать людям о том, что многие боялись, но втайне надеялись услышать.
Во многом благодаря его композиторскому успеху впоследствии получил признание на Бродвее блистательный Курт Вайль, не говоря уже о десятках талантов меньшей величины, которых он вывел в люди. Он был таким же новатором, каким в царстве более серьезной академической музыки был Стравинский, своими жесткими диссонансами проторивший новый путь для сотен последователей; так же и Портер своими стихами установил определенную планку, и всем сочинителям популярных шлягеров пришлось к ней тянуться. Качество его песен таково, что (если правду говорят, что стиль живет долго) со временем забудутся имена и заслуги нынешних королей, президентов, военачальников, а мясники в лавках будут по-прежнему насвистывать портеровские мелодии.
Внешность у композитора специфическая: он похож на игрушечного каучукового чертика. Редкие черные волосы его блестят и лоснятся; лицо, будто театральная резиновая маска, застыло в одном выражении. Одет он опрятно, подобно манекену в витрине ателье: на нем обычно серый фланелевый костюм с непомерно крупной гвоздикой в бутоньерке. Когда он садится, штанины задираются, обнажая щиколотки, и на них не появляется ни единой складки. В одной руке у него обыкновенно зажата трость с золотым набалдашником, и, когда смотришь на тощее запястье, заметно, как велика манжета рубахи.
Коул Портер – поистине уникальное явление: он стопроцентный модник. Тончайшее чувство стиля всегда помогало ему выбрать лучшее из того, что мог предложить современный мир, и не важно, шла ли речь о поплиновой рубахе или арахисовом масле. Даже речь его пестрела самыми модными жаргонными словечками. Колонку светских сплетен Портер каждый раз читал с таким рвением, как будто он египтолог и перед ним лежит испещренный иероглифами Розеттский камень. Даже в деловом общении он не терял шика и шарма: у него никогда не ломались зажигалки, портсигар был всегда полон; управляющие в ресторанах приходили в восторг от того, как он говорит с ними, почти не шевеля губами и не глядя в их сторону. Что бы он ни заказывал – американского гольца или минеральную воду «Виши», сладкую морковь, бутылку кларета или бургундского, он желал получить самое лучшее.
У такого шикарного господина, как Коул Портер, имеется и еще одно редкое достоинство: он всегда вступится за друга, даже если этот друг вовсе не модник. Однако, поскольку Портер стремится к совершенству во всем, он всеми силами будет стараться привить другу чувство стиля. Можно сказать, что он квинтэссенция светского общества нового типа – завсегдатаев парижских кафе; имея богатые внутренние ресурсы, он пользуется ими как источником вдохновения.
Нет никаких сомнений, что перед нами стопроцентный, первоклассный музыкант, который в большей степени, чем кто-либо еще из композиторов, несколько десятилетий формировал музыкальные вкусы публики. Во всех 48 американских штатах, во всей Англии, Франции и Италии нет такого коктейль-бара или ночного клуба, такой танцплощадки или музыкального автомата, где не звучали бы его мелодии. Вот названия этих шлягеров: «What Is This Thing Called Love?», «Night and Day», «You Do Something to Me», «In the Still of the Night», «You’d Be so Nice to Come Home To» – их можно перечислять бесконечно. В песнях он выражает всю гамму эмоций: сейчас он сентиментален, а через минуту уже едок и желчен. Об остроте его ума свидетельствуют тексты таких песен, как «It’s Delovely» или «My Heart Belongs to Daddy». Последняя песенка помогла прославиться Мэри Мартин: публика сразу же запомнила певицу и, разумеется, ее норковую шубу.
При всем своем недюжинном уме Коул Портер, однако, очутившись в компании интеллектуалов, нередко впадает в странное беспокойство и расслабляется лишь в обществе людей простых. В нем чувствуется какой-то надлом, будто под резиновым лицом-маской скрывается еще одно лицо – будто рвется наружу настоящий Коул Портер. Его задача – успеть ухватить мимолетные краски эпохи и вложить их в музыку; он настолько ею увлечен, что, кажется, совсем не успел узнать самого себя, отыскать свое «я» под сплетенной им самим паутиною модного лоска. На фоне современных творцов из мира популярной культуры Коул Портер воспринимается как парадокс: в нем сочетаются взлет и падение Жонглера Богоматери, описанного Анатолем Франсом.