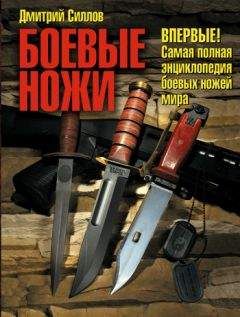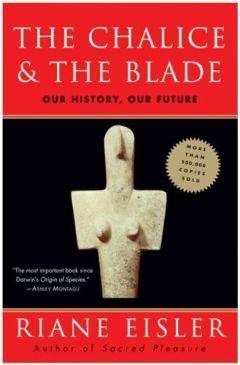Анна фон Бремзен - Тайны советской кухни
Кати не было дома, когда мальчик замолчал. На следующий день Лариса с ужасом наблюдала, как из комнаты выносят маленький сверток в простыне. Она прекрасно знала, что произошло: она постоянно думала о смерти с того момента, как прочитала сказку Андерсена про замерзшую девочку со спичками.
Смерть. Она была рядом — в вое соседки Даши, распечатавшей треугольное письмо с фронта — похоронку. Она каждый день приходила по радио, ее объявлял Голос, и число смертей было таким огромным, что сбивало с толку ребенка, едва умевшего считать до ста.
«Внимание, говорит Москва!» — всегда начинал Голос. Драматический, звучный баритон, внушавший трепет и гипнотизировавший не только маму, но и всю страну, принадлежал Юрию Левитану, еврею-очкарику, портновскому сыну. Главный диктор радио передавал сводки — за всю войну их набралось около 60 тысяч — не из Москвы, но из городов за сотни километров от нее, куда эвакуировали сотрудников радиостанции. Влияние Левитана было таким сильным, что Гитлер считал его своим личным врагом. За его голову была обещана колоссальная награда в 250 тысяч рейхсмарок.
Читая вслух письма солдат с фронта, Голос звучал нежно и задушевно. Сообщая о сдаче все новых городов на пути наступления немцев, он становился медленным и серьезным, выпевал и подчеркивал каждый слог. Го-во-рит Москва.
Еще сильнее пугала звучавшая по радио песня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!» После леденящего кровь отрывистого вступления огромный хор набирал силу и обрушивался мощной волной абсолютного ужаса.
Под эту песню Лиза открыла письмо Наума с Балтики, доставленное его рыжим адъютантом Колей.
«Лиза, учи детей метать гранаты…»
Была еще и посылка — изюм и твердокаменный чернослив для детей. «Наум, он… с ним все в порядке», — уверял их Коля, отводя глаза. Но бьющее наповал прошедшее время в письме подсказывало, что это не так. Было и кое-что еще. Из посылки выпал листок. Коля рванулся его подобрать, разорвал и бросил в мусор. Лиза полночи собирала клочки — это оказалось фото брюнетки в шапочке медсестры. И подпись: «Моему дорогому Науму». И тут моя хрупкая бабушка, боявшаяся даже мышей, решилась оставить детей со своим отцом и поехать на север, к осажденному Ленинграду, чтобы заявить права на мужа.
Лиза добралась до Москвы. Тут обнаружилось, что ей частично передалась невероятная везучесть Наума. Она опоздала на военный вертолет, беспомощно смотрела, как он взлетел — и взорвался в воздухе. В него попала бомба. Потом поезд нес ее сквозь снежные пустоши к Ленинграду. Всю дорогу генерал-попутчик держал Лизу за руку и плакал. Она напомнила ему дочь, которая только что умерла от голода в блокадном городе. Поезд доехал до Кобоны — деревни на том кусочке юго-восточного побережья Ладожского озера, который оставался у русских. Там был развернут полевой госпиталь для эвакуированных из имперской столицы Петра Великого, которую Гитлер собирался стереть с лица земли. Истощенным ленинградцам (в основном это были женщины и дети) давали пол-литра теплой воды и несколько ложек жидкой овсянки. Некоторые, поев, тут же умирали: ослабленный дистрофией организм уже не мог усваивать пищу. Могу представить, что бабушка отреагировала типичным для себя образом: остолбенела от ужаса и отказалась поверить. После войны она редко рассказывала о своих чувствах, предпочитая прятаться за общими словами о трагедии Ленинграда.
Единственный путь в блокадный Ленинград и из него лежал по заметенному снегом льду: тридцать три гибельных километра до другого берега под огнем врага. Это была легендарная Дорога жизни, маршрут, придуманный властями и метеорологами от отчаяния на второй месяц блокады, когда температура опустилась ниже нуля и озеро замерзло. В первую страшную зиму, самую холодную за десятки лет, и в две следующие все припасы поступали в город исключительно по Дороге жизни. Продовольственный паек снизился до 125 граммов суррогатного хлеба в день. Старинный паркет и драгоценные редкие книги жгли в печках, чтобы согреться в тридцатиградусный мороз. Блокадники ели сладковатую землю вокруг сахарного склада, разбомбленного немцами, книжные переплеты и даже студень из столярного клея, не говоря о куда более ужасных вещах. Только в декабре 1941-го погибли больше пятидесяти тысяч человек.
Измученные шоферы дважды в день ездили по Дороге жизни. Чтобы не уснуть, они вешали к потолку кабины металлический котелок, который гремел и бил их по затылку. Постоянно падали немецкие бомбы и снаряды. Лед часто проваливался. Лиза ехала в открытом кузове грузовика, сидя на мешке с мукой. Метель больно хлестала ее по лицу, как ледяная песчаная буря. Все, что было у бабушки — это спец-пропуск и официальное письмо с просьбой о содействии. Она пробралась наконец в осажденный замерзший Ленинград, но понятия не имела, где искать Наума. В городском штабе флота мужчины в форме торопливо пожимали плечами и отмахивались от нее. Наум Соломонович Фрумкин? Начальник балтийской разведки? Может быть где угодно.
В конце концов отчаяние в Лизиных глазах тронуло одного из сотрудников, и он посоветовал ей поискать в штабе Балтийского флота в Кронштадте — за полтораста километров, в Финском заливе. Туда как раз отправляется глиссер. В эту самую минуту на борт сажают пассажиров. Если Лиза поспешит…
Бабушка успела на глиссер, но так ослабла от потрясений, что уже ни на что не надеялась. Кто-то привел ее в столовую на борту, где можно было попросить какой-нибудь еды. За столом сидела компания флотских офицеров. И кто же был среди них? Наум. Улыбающийся (конечно), благоухающий одеколоном. Ему, как всегда, повезло: он выздоровел от пневмонии и избежал угрозы расстрела, отчитавшись о шлиссельбургской вылазке не Жукову, а Ворошилову, который был членом Ставки верховного главнокомандования, — по сути, через голову Жукова. Вместо расстрела Наума наградили медалью.
— Я видела войну, смерть, я видела пули и кровь! — кричала бабушка годы спустя. Еле живая, от голода умираю, косы растрепались… А он сидит, сверкает своими дурацкими зубами!
— Лизочка! — радушно приветствовал бабушку дедушка. — А ты-то что здесь делаешь?
* * *Историю о том, как дедушка нашелся на борту глиссера, бабушка рассказывала часто. Мы с двоюродной сестрой Машей больше любили другую — про то, как Лиза вернулась в Ульяновск и обнаружила, что Лариса лежит со скарлатиной. Каждый вечер бабушка шла сквозь снег в госпиталь, неся Ларочке оладьи из картофельной шелухи. Пока однажды, в метель, не упала и не свалилась в канаву, да так, что не выбраться.
— Я закоченела в той канаве и задремала, прислонившись к каким-то твердым бревнам, — рассказывала она нам. — А в утреннем свете поняла, что это были не бревна, а…
— Ампутированные руки и ноги! — хором выкрикивали мы с Машей.
Мама пролежала в госпитале месяц и помнит оттуда только оладьи. И вообще все ее военные воспоминания в основном о еде. Например, она помнит, чем кормили в школе, куда она пошла в Ульяновске. В 11:15, на большой перемене — завтрак. С грязного цинкового подноса детям раздавали по одному тонкому, посыпанному маком бублику и одной подушечке — зеленой, голубой или розовой конфете размером с ноготь, с вареньем внутри. Ели все вместе — это был ритуал, даже таинство. Кладешь конфету под язык и сидишь, не дышишь, ждешь, когда во рту наберется лужица сладкой слюны. Потом ловким маневром посылаешь сладкую волну и крупинки сахара на кончик языка. Сам не свой от предвкушения, прижимаешься лицом к бублику и нюхаешь. Потом надо выплюнуть конфету в руку и осторожно откусить от бублика. Из-за конфетной сладости во рту он кажется лучшим на свете пирожным. Куснул бублик — лизни подушечку. Удовольствие надо было растянуть на все пятнадцать минут перемены. Труднее всего было оттягивать восхитительный момент, когда конфета трескалась и изнутри начинало вытекать варенье. Самые стойкие одноклассники ухитрялись выплюнуть недоеденную подушечку и сберечь для младших братьев или сестер. Маме это никогда не удавалось.
Манеры моей мамы безупречны, она леди во всех отношениях. Но до сих пор она ест как дикий волк, как пришелец из голодного края. Никто за столом еще вилку в руку не взял, а ее тарелка уже пуста. Иногда в дорогих ресторанах мне становится стыдно за нее — а потом стыдно за свой стыд.
— Мам, ну, правда, говорят, еду полезно тщательно жевать, — слабо увещеваю ее я.
— Да что ты говоришь! — отвечает она.
От мамы я знаю, что для гражданских выживание зависело от одного слова: «карточки». Их печатали на большом листе бумаги сразу на месяц — квадратные талоны с печатью, именем и подписью получателя и безжалостным предупреждением: «При утере карточка не возобновляется», — потому что коррупция и подделка карточек процветали. Потерял карточки? Желаем удачи.