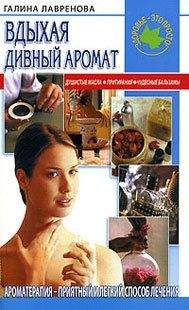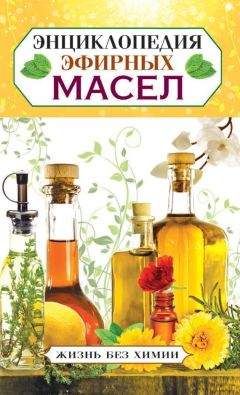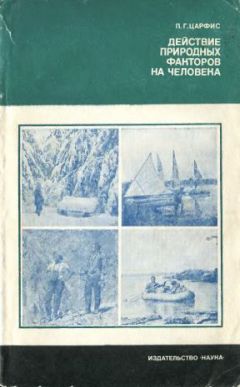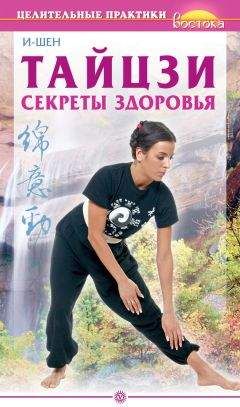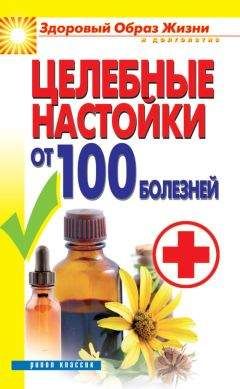Яков Резник - Сказ о невыдуманном Левше
Решился на это Николай Сядристый, но не так, как иным кажется: прочитал в газете и — «загорелся». В жизни процесс рождения нового — его осмысление, выбор материала, методы труда — куда как сложнее и интересней.
Послушаем Сядристого.
— Как-то радио передавало рассказ о композиторе-балалаечнике Василии Васильевиче Андрееве. Жизнь, музыка этого подвижника покорили меня, и я с волнением приступил к миниатюрной композиции.
Разрезал пополам маковое зерно, выскоблил внутреннюю часть, скрепил половинки золотыми петельками — зернышко превратилось в шкатулку. В левую половинку вставил стекло и на нем выгравировал портрет Андреева. В правую поместил отполированный до зеркального блеска раскрытый футляр для балалайки. А самой балалайке пришлось отдать больше времени и сил, чем другим частям композиции.
Каждый из десяти сегментов я готовил отдельно. Из них склеил корпус. Углы его инкрустировал.
Детали инструмента делал из тонкой дощечки, вырезанной из скорлупы грецкого ореха. Доска сначала выпиливалась лобзиком, а затем утончалась резцами до толщины в несколько микрон. Всего деталей в балалайке — сорок. Гриф, изготовленный из косточки и имеющий двадцать деталей, настолько тонок, что в несколько раз слабее ножки комара. Натянутая паутинка может согнуть гриф в дугу, может его сломать. Ни о каком креплении деталей при таких размерах не может быть и речи. Они отрезались от заготовок лишь по мере последовательного приклеивания к корпусу. Каждая деталь при этом ложилась на самую кромку пластмассовой пластинки так, что балалайка находилась в воздухе, ни к чему не прикасаясь.
Неожиданно возникла проблема струн. Обычный волосок по сравнению с грифом выглядит как колода; паутина тоже груба. Вспомнил, что вытянутый клей дает очень тонкую нить. Из клея сделал струны в несколько раз тоньше обыкновенной паутины. Прямо с воздуха они «ставились» на балалайку.
Средняя толщина инструмента, уложенного в футляр — 0,06 миллиметра, то есть он равен толщине одной стенки балалайки Маслюка.
Первая моя балалайка потерялась. Положил ее на стекло и накрыл сверху стеклянным колпачком. А когда снял его, балалайки на прежнем месте не оказалось — улетела, увлеченная потоком воздуха, возникшим при снятии колпачка.
ШТУРМ ТАЙН МИКРОТЕХНИКИ
Говорят, буря в стакане воды. А «бурю» в сотой или тысячной доле меди или стали, дерева или пластмассы, косточки или золота, с которыми имеет дело миниатюрист, — это можно себе представить?
И почему буря? Кто ощущал ее или наблюдал, кроме трех-четырех чудодеев, подобных Сысолятину, Сядристому в нашей стране и, может быть, десятка с небольшим других мастеров на всей земле?
Ведь только они создают невидимые невооруженным глазом шедевры, растачивая их резцами и напильничками собственной конструкции, просверливая продольные каналы внутри... человеческого волоса!
Нередко крохотки Александра Сысолятина и Николая Доцковского, Эдуарда Казаряна, Николая Сядристого и Михаила Маслюка переставали подчиняться законам всемирного тяготения — не падали ни с наклонного, ни даже с перевернутого листа или же исчезали бесследно от неосторожного вздоха. Так улетучилась та сысолятинская сердцевинка к микроузлу для автоматического устройства — пришлось делать новую сердцевинку. Случались пропажи бесценных изделий, на создание которых уходила масса времени и энергии и у других мастеров, — случались в моменты перехода ими неуловимой грани сверхутонченности. Микроминиатюристы наблюдали под микроскопам, как внезапно ярко окрашенная пластиночка металла, утоньшаясь, теряла свой цвет, крохотные изделия погибали то ли из-за окисления, то ли по иной, неведомой причине. Мир малых величин, мир микротехники скрывал только им присущие законы. Удастся ли их раскрыть, подчинить работе мастеров миниатюр?
Было время: Александру Матвеевичу Сысолятину, да и другим первопроходцам неведомого, казалось, что им лично вряд ли посчастливится раскрыть тайны мятежных бурь, драматических схваток, происходящих не только с микродеталями, но и внутри их собственного организма во время работы над едва видимыми даже под микроскопом изделиями. Да как им совершить с малыми теоретическими знаниями глубинную разведку в пределы, куда ученые и те не заглядывали, как понять суть изменений в человеке, отрывающемся и слухом, и зрением, и нервами, и руками от всего сущего, кроме этой пылинки под микроскопом?
Странное, непонятное состояние было у Александра Матвеевича в часы работы. Тело застывало, каменело. Действовали только два пальца — большой и указательный. Их мышцы концентрировали в себе всю энергию организма, и если почему-то подключались другие мышцы тела, если внимание на долю секунды отвлекалось посторонним звуком или не имеющей отношения к этой работе мыслью — не жди успеха, знай заранее, что микродеталь полетит в брак.
Все ли микроминиатюристы находятся в таком плену? Как бы облегчился труд, если б понять, объяснить состояние свое и материалов, над которыми действуешь...
И не предполагал Александр Матвеевич, что самый молодой из его сподвижников — Николай Сядристый — уже приподнимает завесу над волнующими тайнами, что он совершил первые рейды в загадочный мир микротехники.
Творческая судьба Николая Сергеевича Сядристого сложилась удачнее, счастливее, чем у старших его товарищей по микроискусству. Пожалуй, можно утверждать, что пионеры советского микротворчества, те, которые перенесли и бои с фашистской армией, и военные тяготы в тылу, те мастера проложили юному сподвижнику небывалую нигде и никогда тропу. Да и условия учебы, работы оказались у Николая Сядристого иными. Разве сравнишь их с условиями Александра Сысолятина, работавшего в своей первой домашней мастерской при искусственном свете, без естественной вентиляции, годами не имевшего обычного микроскопа, не говоря уже о бинокулярном помощнике Сядристого в его поисках и находках. К счастью Николая Сергеевича, с первых его шагов в микротворчестве к его услугам были богатейшие кабинеты сельскохозяйственного института и мастерские художественного училища в Харькове — в одно и то же время учился в двух учебных заведениях и оба окончил с отличием. Достаточно посмотреть портрет Владимира Ильича Ленина его работы, чтобы почувствовать в нем дар художника.
Портрет размером 48×38 сантиметров. Он «соткан» из микробукв полного текста сочинений Ленина «Очередные задачи Советской власти», «Великий почин» и текста его отдельных статей о мире. Увидите его, и вам покажется, что это академический рисунок, выполненный тушью. Только истинный талант в двух столь разных областях, как графика и микроискусство, мог их слить в одно творение, мог выдерживать светотеневой диапазон от самого светлого до самого темного во всем портрете, мог выписать его буквами, не позволяя себе ни одной поправки, ни усиления, ни ослабления светотени на уже выписанных местах (если делать поправки, портрета не получится). Смотришь на этот мастерски исполненный портрет с расстояния вытянутой руки и, если даже слышал, что он рожден из букв, не веришь этому. А подойдешь ближе и при помощи лупы свободно читаешь все четыреста восемьдесят строк, видишь каждую из ста сорока тысяч буковок.
А другой — самый маленький портрет Ильича в мире, сделанный рукой человека, — исполнен Сядристым на торце волоса. Живописец рисовал его с помощью микроскопа, применяя алмазные резцы, а краской служила ему растертая березовая сажа.
Вот так произошло органическое слияние в одном человеке графика, живописца и мастера микроизделий экстракласса.
* * *Не таясь ни от кого, щедро открывает людям тайны микротехники Николай Сергеевич Сядристый. Он делился со мной интереснейшими подробностями своей работы. Он отвечал на все вопросы посетителей выставок и в нашей стране, и в Монреале, и в Праге. Другой мастер, воспитанный в мире частной собственности, держал бы свои секреты под семью замками, наживал бы на них одно только личное благополучие. А тут — умей только видеть красоту и ценность этого редчайшего вида труда человека, умей слушать, что рассказывают Сысолятин и Доцковский, Казарян и Маслюк, пожелай только почитать то, что написал Сядристый, и ты обогатишься знаниями уникальнейшего творчества.
Достойно незаурядного исследователя загадок природы его раскрытие тайн микротехники, дерзновенное проникновение в эпицентр драматических конфликтов, происходящих в поле зрения микроскопа.
Советские мастера проложили принципиально новые пути в микротворчестве, уходящем корнями в древнейшие цивилизации, не только и не столько по талантливости своей (она у них не уменьшится от такого утверждения), сколько по великой преданности избранному фантастически тяжелому кропотливому труду в микротехнике, являющемуся уже не тем, который принято называть умственным или физическим. Помимо исследований, поисков решений, характерных для труда умственного, сами микродвижения мастера представляют собой предельно утонченную форму психофизиологического труда. «Среди всех известных видов труда, — говорит Николай Сядристый, — не знаю более тяжелого».