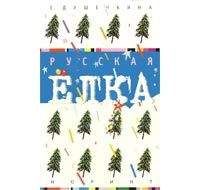Эдуард Лимонов - Это я – Эдичка
Я ебал эту лодку, я посмотрел вежливо, но я с большим интересом пошел бы поглядеть в анатомический цех, куда меня и приглашали недавно, поглядеть, как разрезают умерших. А лодка – хуй с ней. Но все не дома, спасибо Джону.
После лодки он повез меня еще куда-то, не называя куда. У него это обычный прием, я тоже не раскалываюсь, молчу, не спрашиваю, куда везут, только на дорогу гляжу, пытаясь отгадать. Ага, вот теперь ясно – это Толстовская ферма. Повернул он от фермы вправо, виляя между подержанных машин, подъехали мы к одноэтажному бараку на две семьи. Вошли.
– Это Эд – представил он меня парню с седыми висками. – Его зовут, как меня, Джон, – сказал Джон, грубо показывая на парня.
– Да, кое-кто зовет меня Джон, – сказал человек мягко, – а кое-кто Ваня.
Квартирка была малюсенькая, в маленькой соседней спальне спала маленькая дочка хозяина, и пока ее не было, пока она не проснулась, мне было ужасно скушно, и даже тоскливо. Сейчас вы поймете, почему.
Джон привез с собой магнитофон, грубый, ширпотребный с дребезжащим звуком и включил его, пела какая-то американская девушка. Ваня этот, я мысленно называл его Ванечка, потому что в нем была разлита мягкость. И в том, что он говорил, и во всей фигуре его, мне этот парень, работающий на фабрике пластмасс, определенно нравился, Ваня этот смеялся над джоновым магнитофоном. Джон оправдывался, что он купил магнитофон для практики английского. Впрочем, они называли магнитофон тайприкордером, я забыл.
Девушка с магнитофонной ленты пела о том, что то, что было вчера, не вернется никогда, и.что это ужасно, и еще многие другие грустные слова. После этой девушки Джон записал какого-то русского старика – Кузьмича или Петровича. «Чего хочешь Кузьмич, говори или пой», – сказал Джон из тайприкордера. Джон на стуле хмыкнул. И когда Кузьмич запел, путая слова, русскую народную песню «Когда я на почте служил ямщиком», я, каюсь, встал и тихонько вышел.
На хуй мне эти дергающие меня русские песни о любимых, найденных под снегом мертвыми. Это было слишком близко ко мне. В то время, да и сейчас, даже англо-русский словарь обдавал меня жутью. Слова «возлюбленный», «страстный», «совокупление», и другие подобные, мучили меня адскими муками. Я корчился, читая их. Не хватало мне только русских песен.
Я вышел, шумели деревья, зеленела трава, вечерело, болгарский юноша из соседней семьи сидел на крыльце и постукивал высоким каблуком по порогу. Я подошел к вану, на котором мы приехали, привалился к его желтому высокому корпусу лбом и затих. Из дома доносилось заунывное пение. «Зачем все это, думал я – разве нельзя было прожить всю жизнь в любви и счастье, жизнь такая короткая, такая маленькая, чего она, Елена, ищет, какая сила гонит ее вперед или назад, почему я должен переживать такие вот и куда более страшные минуты. Можно было пройти вместе всю жизнь – авантюристами, блядями, проститутками, но вместе. Последняя фраза моя любимая, секс сексом, – ебись с кем хочешь, но душу-то мою зачем предавать.
Прошло это быстро. Ведь это был уже конец лета, а не март или апрель. Я не обзавелся прекрасным настроением, но когда я зашел в дом, дед уже допевал «Коробейников», и появилось маленькое заспанное существо двух лет – Катенька, даже чуть меньше двух лет. Папа-болгарин одел существо, и оно стало передвигаться среди нас, более всего в моем районе, издавать звуки и улыбаться мне. Я поймал себя на том, что слежу только за Катенькой, разговоры Джона и Ванечки были мне не интересны. Они говорили что-то о тех подержанных машинах, которые стояли вдоль дороги к бараку. Машины, оказывается, продавались, и дешево. Белый понтиак стоил всего 260 долларов. На цене понтиака я и отключился, потому что я решился, я взял эту Катеньку и посадил себе на колени.
Господи, что я, несчастное испуганное существо, знал о детях? Ни хуя. Маленькое растение нужно было развлекать. На голове у меня была старая соломенная шляпа Джона, я то снимал ее, то надевал, стараясь вызвать улыбку на лице малышки. Девочка, которая по возрасту была ближе к природе, к листьям и траве, чем к людям, понимала меня, она не плакала, она не хотела меня ничем пугать, она положила свою малюсенькую лапку мне на грудь – рубашка у меня была расстегнута, и погладила меня. Лапка была горячая, и от этой лапки потянул в мое тело такой звериный уют, какого я не чувствовал с тех пор, как засыпал, обнимая Елену.
Вдруг я подумал, что ведь очень не любил когда-то детей, и как я был счастлив сейчас с этим существом на коленях. «Вырастет – будет красивая, Ванечка был ничего парень, жены я его еще не видел. – Дай-то Бог тебе счастья, зверек, – думал я, – только если счастья, то на всю жизнь, и не дай тебе Бог познать счастье, а потом всю остальную жизнь жить в несчастье. Самые страшные муки».
Зверек сидел у меня на коленях, а я, дурак, не знал, что с ним делать, я только осторожно поддерживал его под спинку и корчил ему смешные гримасы. Я был неумелый. У меня никогда не было детей. Была бы у меня сейчас такая Катенька, какой я бы был сильный, и был бы у меня стимул жить. Я не отдал бы ребенка в школу, в гробу я видел ваши школы. Я одевал бы ее в прекрасные наряды, самые дорогие, я купил бы ей большую умную собаку…
Так я бесполезно мечтал, глядя на чужого ребенка. Почему бесполезно, скажите вы? Конечно, бесполезные это были мечты. Я не мог уже иметь ребенка от любимой женщины, от нелюбимой я бы его не любил. Мне не нужен был нелюбимый ребенок.
Нельзя было так долго держать ее на коленях. Они могли заметить, мне бы не хотелось. Для Джона я был беспринципным отчаянным Эдом, неплохим грузчиком, которого он прочил в будущем в менеджеры его, Джона, предприятия, его дела, его бизнеса. Он такой, Джон, он все будет иметь. Недаром он живет как спартанец, не пьет, не курит и, может быть, с женщинами не спит, считает, что это слишком разорительное занятие сейчас для него. Он все будет иметь, Джон, чего хочет. Только ненадолго, ибо вся эта эра кончается.
Джон записал на тайприкордер Ванечку, тот спел несколько кусков каких-то болгарских песен и знаменитые «Подмосковные вечера». Получалось у него мягко и трогательно. Я отпустил Катеньку, ссадил ее осторожно на пол и с ожесточением подумал, что не имею права расслабляться, что нужно держать себя крепко, иначе загнешься, а как узнал я из какого-то разговора между гостями Розанны, – они обсуждали книгу «Жизнь после жизни», – самоубийство ничего не меняет, страдание остается, мертвый испытывает те же чувства, что и живой. Я не хотел бы погрузиться в вечность в таком состоянии, как я сейчас. Убедили. Значит, нужно изживать. Потому я преувеличенно четко попрощался с хозяином, Катеньку, сидящую на руках у папы, легонько потрогал по плечу, сказал: «Гуд бай, бэби!» и вскочил на свое сидение, и мы поехали в темноте, время от времени разговаривая, время от времени замолкая. Был большой трафик, воскресенье, люди ехали из зон отдыха и потому мы попали в Манхэттан не скоро.
– Посмотри на этот кар, впереди нас, – сказал Джон, когда мы ползли по Вашингтон-бридж. – Он стоит 18 тысяч. Моя машина для того, чтоб делать деньги, его – чтоб тратить деньги. В ней наверняка едет «чит» – мошенник, который разбогател на обмане и наркотиках. Чем ты хуже его, но ты сидишь здесь в моем ване, и у тебя ничего нет.
Джон сказал это злобно, и я подумал, что он тоже далеко не так прост, как кажется. И не очень доволен. Работает он, как зверь, и устает – на лице морщины. Может, насчет баррикады я и ошибся. Может, на одной стороне, а? Дай-то Бог. Что-то похожее на классовую ненависть промелькнуло в его словах.
– Как называется этот кар? – спросил я.
Мерседес-бенц! – ответил он и прибавил, глядя на кар, – Факен шит!
12. Мой друг – Нью-Йорк
Я – человек улицы. На моем счету очень мало людей-друзей и много друзей-улиц. Они, улицы, видят меня во всякое время дня и ночи, часто я сижу на них, прижимаюсь к их тротуарам своей задницей, отбрасываю тень на их стены, облокачиваюсь, опираюсь на их фонари. Я думаю, они любят меня, потому что я люблю их, и обращаю на них внимание как ни один человек в Нью-Йорке. По сути дела Манхэттан должен был поставить мне памятник, или памятную доску со следующими словами: «Эдуарду Лимонову, первому пешеходу Нью-Йорка от любящего его Манхэттана!»
Однажды я прошел пешком за день более 300 улиц. Почему? Я гулял. Я вообще почти исключительно хожу пешком. Из моих 278 долларов в месяц мне жаль тратить 50 центов на поездку куда-либо, тем более что твердо установленной цели у моих прогулок нет, или цель бывает приблизительная. Например, купить себе тетрадь определенного формата. В Вулворте ее нет, и в другом Вулворте нет, и в Александере нет, и я иду на Канал-стрит, чтобы где-нибудь в ее развалах выкопать себе такую тетрадь. Все другие форматы меня раздражают.
Я очень люблю бродить. Действительно, без преувеличения, я, наверное, хожу больше всех в Нью-Йорке. Ну разве что какой-нибудь бродяга ходит больше меня, и то я не думаю. Сколько я их изучил, все они малоподвижны, больше лежат или вяло копошатся в своих тряпках.