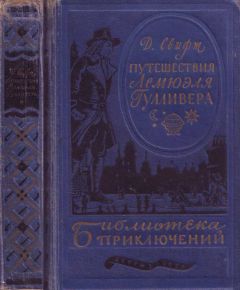Джонатан Свифт - Эротические приключения в некоторых отдаленных частях света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей
И вот, едва я остался один, как со двора в помещение, где стояло мое корыто, вбежала та самая охотничья собака, которая однажды уже таскала меня, словно дичь, к хозяину, схватив зубами за одежду. На дворе было жарко, и собака, высунув язык, не раздумывая, бросилась в корыто, чтобы освежиться. Это произошло так неожиданно, что я едва успел ухватиться за мачту, и вовремя, поскольку в следующий же момент волна, поднятая глупой тварью, наверняка смыла бы меня за борт, а так лишь окатила с ног до головы, испортив мой капитанский мундир, который специально для плаваний сшили мне по велению королевы. Я было подумал, что счастливо отделался, поскольку собака, барахтаясь в воде, на сей раз не обращала на меня никакого внимания, но тут из-за двери раздался голос хозяина, звавший ее, и она, замахав хвостом, бросилась вон из корыта. Все бы хорошо, но один из взмахов её длинного и, как выяснилось, довольно твердого хвоста пришёлся по моей грот-мачте, – та тут же переломилась, судно опрокинулось, и я оказался в воде.
Я был неплохой пловец, но плыть мне было некуда – до верхнего края корыта я все равно бы не дотянулся, но даже дотянувшись и вскарабкавшись на него, все равно не смог бы спрыгнуть, поскольку до пола было никак не менее восемнадцати футов. В вышедшей в свет книге, видимо, по вине наборщика выпала единица, и глубина корыта оказалась на целых десять футов преуменьшенной. Мне пришлось держаться на поверхности, уцепившись за свое, к счастью, не затонувшее суденышко, пока не вернулась Глюмдальклич. Вода в корыте была довольно прохладной, родниковой, и эти четверть часа, проведенные в отчаянном ожидании моей нянюшки, стоили мне жесточайшей простуды, от которой я нескоро оправился…
* * *
Живя на чужбине, в абсолютном физическом ничтожестве, как если бы действительно в клетке, пусть даже и золотой, я, разумное человеческое существо, понял одну весьма важную вещь – ничто извне, даже сам Бог, не может заменить нам наше собственное «я», никто не может сделать нам хорошо, кроме нас самих, ибо сделанное за нас и для нас «хорошо» таковым в наших глазах не является и причиняет нам такие же душевные терзания, как и то, что «нехорошо». То есть никто не может сделать нас счастливыми без нашего участия, ибо счастье это пройденный путь и чувство удовлетворения от преодоленных на этом пути препятствий. Прав был великий философ сэр Джон Локк: наше счастье, как, впрочем, и несчастье – дело наших собственных рук. Душа – большая индивидуалка, и не может жить подачками с чужого стола. И ещё я сделал весьма важный для себя вывод, каковой не мог сделать прежде, живя в иных обстоятельствах, и заключался он в том, что государство, на попечении которого находятся его граждане, не должно вмешиваться в их жизнь больше, чем они сами то позволяют. Государство в лице своего государя должно защищать свои границы и своих граждан от вторжения тех воинственных народов, которые хотели бы сделать этих граждан своими рабами, государство должно поддерживать торговлю, ремесла и такие важные для воспитания духа нации области, как образование и культура. Государство должно выступать меценатом благих порывов и начинаний своих граждан, но оно обязано знать свои рамки, ибо оно никого не может сделать счастливым, а может лишь создать для этого предпосылки, главная из которых – терпимость и уважение к личной жизни каждого. Я понял, что насилие, даже если оно якобы во благо, есть величайшее несчастье для любого человека, ибо подрывает достоинство личности и порождает послушного раба. Быть же рабом человеку противопоказано, поскольку рабство разрушает сознание. Рано или поздно истинная природа человеческого все равно берет верх, и раб восстает. Этим человек и отличается от домашнего животного, которое покорно переносит свое рабство, зачастую даже хочет его и довольствуется им за даровой харч. В Лилипутии при всех ограничениях, каким я там подвергался, я чувствовал себя совсем иначе – демиургом, вершителем отдельных судеб и истории в целом, – пожалуй, никогда больше, ни до, ни после, я не был столь полноценным, я был велик, я уважал себя, и мое «я» было во столько же раз больше меня самого, во сколько теперь оно было меньше меня же, ничтожества и пигмея. Оказывается, самосознание, самоощущение своего «я» есть величина относительная, как сказали бы математики, и впрямую соотносится со средой обитания, точнее – с масштабом твоей личности в ней.
* * *
Как-то раз в беседе с королем я рассказывал ему о любви и об отображении её в живописи и скульптуре, видах искусств, которых, сколько я мог заметить, не было в Бробдингнеге. Не скажу, что это было связано здесь с религиозной верой, как, скажем, в мусульманском мире, где при запрете на изображение Аллаха, а с ним и людей, развилось лишь искусство прихотливого узора. Нет, просто изобразительный гений у бробдингнежцев вообще отсутствовал, и, кроме музыки, у них ничего не было, впрочем, и музыка была здесь настолько груба и примитивна, что простенький мотив матросской джиги в моем исполнении являлся усладой для местных меломанов…
Король был отчасти удивлен моим сообщением, что в нашей крошечной Европе крошечные европейцы, к которым я имел честь (или несчастье) принадлежать, несмотря на свои крошечные размеры, помешаны на изображении своих крошечных фигурок, особенно женских, находя в неподвижном изображении некую прелесть и вдохновение. Ему была непонятна наша страсть запечатлевать красками на куске грубого холста красивый образ, портрет, – он признавал только «живые» искусства, ту же музыку, звучавшую лишь в момент исполнения, или пение, или театр, с актерами, ходящими по сцене. Он не видел никакого смысла в том, что наши художники запечатлевают не только человеческие фигуры и лица, но и природу, деревья, небо, скалы, море и корабли на нем. Особенно его насмешили мои слова о том, что в нашей живописи много батальных сцен – стреляющие пушки, горящие крепости, летящая кавалерия, насмерть бьющиеся армии… Ему все это показалось нелепым, потому что, по его мнению, мы пытаемся на своих тряпках, натянутых на подрамник, остановить жизнь, движение, тогда как это абсолютно невозможно. Как можно остановить меняющиеся облака или прибой на море, или солнце, уходящее за горизонт и расцвечивающее небо каждую минуту меняющимися красками. Наше изобразительное искусство показалось ему крайне наивной детской забавой, и он долго от души смеялся. Однако я имел мужество вступить в спор с Его Величеством, сказав, что он абсолютно прав в своем понимании сути искусства изображения подвижного мира, который действительно застывает, будучи перенесенным на холст. И мое возражение состоит лишь в том, что и в застывшем виде этот мир остается в своем роде живым и многозначным, и что великие художники владеют искусством обобщения и нахождения главного среди тысячи второстепенных мелочей и умеют через одну счастливо найденную деталь изобразить очень многое, если не все. В подтверждение своих слов я даже назвал имена двух великих мастеров прошлого – Рафаэля и Леонардо да Винчи, к сожалению, не англичан, поскольку Англию, как и Бробдингнег, живописный гений явно обошёл стороной.
Увы, я не смог убедить короля и увлечь его очарованием и в некотором роде бессмертием нашей живописи, потому так и названной, что она сохраняет исчезнувшее и минувшее как бы живым. Эта придумка европейцев, хотя он и не видел ни одного её образца, показалась ему пустой и никчемной. В свою очередь король показал мне устройство, изумившее меня необычностью и отчасти поколебавшее мои пристрастия в области живописи. То, что он продемонстрировал мне, не было живописью, хотя в известном смысле было живее ее, потому что двигалось при желании зрителя. Устройство это представляло собой круг с нарисованными по его краю фигурами человека в мой рост и с узкими прорезями, разделявшими их. Вращая этот круг и глядя сквозь его прорези в зеркало, можно было видеть, что человек пускается в бег, как живой. Мне казалось, что это я сам бегу от напастей своей судьбы. Таких кругов у короля было немало, целая коллекция. Достаточно было надеть один такой на стержень и крутануть перед зеркалом, как представление начиналось… Так я с восторгом просмотрел вслед за бегом человека бег лошади, полет утки, прыжки лягушки, драку собаки с кошкой, а под конец король с торжествующей улыбкой продемонстрировал мне соитие мужчины и женщины… Взбудораженный, потный от просмотра, я вынужден был согласиться, что движущиеся картинки в известном смысле возбуждают меня больше, чем галантные картины европейских мастеров.
И все же мои восторженные отзывы о картинах, изображающих обнаженное женское тело, которое в наших придворных кругах стало главным предметом любования, восхищения, поклонения и пользования, король выслушал не без любопытства. Он с благосклонностью отнесся к сюжетам полотен, где пышно разодетые по последней моде мужчины соседствуют с полуодетыми, а то и вовсе раздетыми прелестницами. Его Величество согласился, что подобные картины могут возбуждать воображение и не только оное, но что будь они здесь, их можно было бы показывать только в первый день весны или осени, когда разрешено семяизвержение в лоно, в остальные же дни года вреда от них больше, чем пользы. На что я вежливо возразил, что при отсутствии каких-либо ограничений в отношениях полов, как у меня на родине и в странах, кои я имел честь посетить, подобные картины оказывают круглогодичное благотворное воздействие. Король, тем не менее, усомнился в достоверности моих слов по той причине, что в таком случае, заметил он, страны, о которых я говорю, были бы перенаселены настолько, что жизнь там стала бы невозможной. На это я с присущим мне тактом объяснил королю, что от нежелательных детей у нас избавляются изгнанием плода во время беременности с помощью специальных трав и настоек, или, ежели ребенок незаконнорожденный, что случается тут и там при нашей замечательной вольности нравов, то такого ребенка отправляют в деревню, где он, как правило, живет недолго. Для нежелательных детей есть ещё сиротские и воспитательные дома, избавляющие родителей от бремени лишних забот.