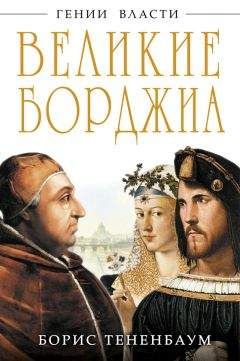Эдуард Лимонов - Великая мать любви
"Fuck your Джон Леннон и хитрую японку Йоко Оно. Так ему и надо..."
"Ты что, с цепи сорвался, сумасшедший! Какой-то маньяк застрелил Джона Леннона у ворот дома "Дакота", на углу 72-й и Централ Парка. Очнись, сумасшедший, речь идет о Ленноне... Целое поколение потеряло лидера..."
"Я никогда не любил эту сладкую семейку, Битлз. Жадные рабочие парни, сделавшие кучи денег, меня никогда не умиляли. Тебе они должны быть близки, такие же ханжи, как и ты..." "Слушай, ты совсем охамел", - сказала она там, в Риме. "Я имею право!" - твердо заявил я в Париже.
И она знала, что я имею право. Наша с ней попытка образовать пару опять, после нескольких лет раздельной жизни (там, в Риме, у нее был законный муж!) не удалась. По ее вине. Она опять сдрейфила. Я явился в Париж в конце мая из Нью-Йорка с двумя чемоданами начинать новую жизнь. Мой издатель - Жан-Жак Повэр в очередной раз обанкротился, - остался без издательства, и контракт, который я с ним подписал, оказался недействителен. Я приехал в Париж спасать книгу. Я был готов к промошэн моей книги даже с помощью machine-gun!, как я записал в дневнике того времени. Она приехала в Париж в начале июня, с восьмью чемоданами и гордон сеттером, или сеттер-гордоном, глупейшей собакой в любом случае. Но не начинать новую жизнь со мной, как я воображал, она лишь привезла приличествующее количество нарядов, дабы с блеском прожить еще одно приключение в жизни - она хотела испытать, что такое жизнь в Париже с начинающим писателем. Ее муж? О, он был тактичным графом, он отпускал
8
ее на месяцы одну в Париж и Нью-Йорк, он был тактичен до такой степени, что предупреждал о точной дате и времени своего последующего телефонного звонка в письме!.. Выяснилось, что у нее превратные представления о жизни начинающего писателя. Ей не понравилась моя студия в виде трамвая, только голова студии была освещена, хвост терялся во тьме. Не понравился затхлый запах старых тряпок и мебели мадемуазель Но. Она возненавидела электрический туалет, шумно выкачивающий дерьмо по узкой латунной трубке в широкую канализационную трубу. В туалет этот - чудо французской канализационной техники (с мотором!) нельзя было бросать туалетную бумагу. Ей была противна моя сидячая ванна, в которую (если я, забывшись, бросал в туалет бумагу) нагнеталось мое или ее дерьмо из туалета! Какой кошмар, у ее мужа был титул, и у нее был титул, и пожалуйста, такой туалет, и такая ванна! Женщины любят читать о первых шагах впоследствии знаменитых писателей в Париже в книгах, в них - дерьмо, хлюпая вдруг выступившее из отверстия в ванной, куда обязана стекать вода, выглядит романтичным. Но опускаться в такую ванну въяве, хотя бы и вымыв ее предварительно... Кошмар! (Камин ей впрочем нравился. Камин был утвержден романтической традицией как несомненный атрибут "бедной" жизни художников и артистов).
За июнь месяц, прожитый с нею в Париже я успел выяснить о ее характере больше, чем за несколько лет нашей совместной жизни в Москве и Нью-Йорке. Она оказалась показушницей par excellence. Она вдруг опять шатнулась в мою сторону, потому что ей показалось, что я начал соответствовать ее стандартам. Загружаясь в поезд в Риме с сеттер-гордоном и чемоданами, она очевидно думала, что едет прямиком в первые пятьдесят страниц книги Хемингуэя "Движущийся праздник". Она ошиблась, слишком забежала вперед. Кроме Жан-Жак Повэра я не был известен ни единой душе. Ей некуда было одевать все эти восемь чемоданов тряпок. Один раз мы посетили "Липп" элегантно одетые (предвосхищая годы безденежья, я привез из Нью-Йорка смокинг и несколько первоклассных одежд), молодые и бизарр, но посетители не остолбенели и не были повергнуты в смущение. Никто и ухом не двинул. (Одна, она таки повергала в смущение знаменитостей. После сольного посещения ею "Клозери дэ-Лила" я нашел у нее в сумочке целых три телефона Жан-Эдерн Аллиера и телефон Филиппа Солерса). Мы не успели поскандалить, так как в июле, оставив половину чемоданов в моей студии, она уехала с титулованным мужем в Великобританию. Она всего лишь обозвала меня на прощание скрягой...
В августе она позвонила мне, чтобы сказать, что она в Париже и остановилась в отеле "Тремуай". Все забыв, я помчался в такси к ней. Красивая, в соломенной шляпке с цветами, она мальчиком разгулива
ла по холлу. Мы бросились друг к другу, и срочно поднялись к ней в комнату, чтобы совокупиться. Ближе к вечеру, сидя в ресторане, я узнал, что за отель "Тремуай" буду платить я. Я имел глупость похвалиться ей в открытке, что заключил с Жан-Жак Повером и издательством "Рамзэй" новый контракт, за каковой получил вдвое больше денег.
Декларируя письменно любовь к любимой женщине в только что проданной книге, мужчина не может так вот стразу выпалить: "Собирай вещи, переезжаем ко мне! Безумие платить девятьсот франков в день за комнату в отеле, когда я плачу 1300 в месяц за студию!" Только по прошествии четырех дней мне удалось увезти недовольную аристократку на рю Архивов. Отсчитывая деньги розоволицему кассиру отеля я видел не пятисотфранковые билеты, но корзины с провизией, могущей обеспечить мой желудок на многие месяцы вперед... Уже через неделю мы разругались вдребезги. Она швырнула в меня блюдом с вишнями, англо-французским словарем и покинула улицу Архивов. К моему облегчению. В пределах территории двух постелей студии, в горизонтальных или близких к горизонтальным, положениях, наша жизнь была великолепна, но как только мы выбирались из постелей, начинались стычки и разногласия. Она не звонила мне всю осень. И вот убили Джона Леннона.
"Повезло человеку, - сказал я. - Что его ожидало в любом случае? Старение, судьба толстого борова Пресли? Охуение от драгс и алкоголя... Благодаря тому, что его пришили, нам не придется увидеть его в загнившем состоянии. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь пристрелил меня, когда я напишу все, что мне нужно. Парня этого, который его убрал, объективно рассуждая, благодарить бы нужно..." "У тебя нет ничего святого", - сказала она.
"У тебя зато есть. Ты никого не любишь, кроме своей пизды. И мужа своего не любишь, но эксплуатируешь", - прибавил я, предвосхищая ее ответ.
"Неправда! - закричала она. - Я люблю свою сестру и маму люблю!"
"Кончай демагогию, - сказал я. - Любовь - не твоя страсть. Твоя страсть - страх. Боязнь жизни. Потому ты всегда стремилась спрятаться от жизни за мужскую спину, в теплое, красивое стойло".
"Неправда! - вскричала она. - Я любила тебя и ушла от богатого мужа, вдвое старше меня, который относился ко мне как любящий папа, к тебе, безденежному поэту. У тебя было пятьдесят рублей денег, когда я ушла к тебе, ты забыл? И глупая, вышитая крестиком украинская рубашка. Одна. В ней ты читал стихи. Ты снимал желтую комнату в девять квадратных метров в коммунальной квартире... Я не побоялась жизни, я, не умея плавать, прыгнула в нее!" "Это не твоя была храбрость, my dear, но храбрость твоей пизды. Те
10
бе было двадцать два года и ты хотела ебаться, безудержно хотела ебаться, а твой муж, погасив свет, ебал тебя ровно три минуты! Ты же хотела ебаться сто минут, двести, всегда! Ты ушла ко мне, потому что я тебя хорошо ебал, вот что! В Нью-Йорке мой хуй тебе надоел и тебе стало страшно бедности, в которую мы попали. Ты заметалась от мужчины к мужчине в поисках теплого стойла..." "Каким же монстром ты стал, Лимонов!" - сказала она грустно. "Прекрасно! - сказал я. - Я счастлив быть монстром. Не звони мне, пожалуйста, впредь! Пусть твой муж фашист утешит тебя в горе"
И я положил трубку. Ее титулованный граф был членом фашистской партии, она сама мне об этом рассказывала. Я одел красные сапоги, брюки, куртку и спустился за прессой. С манерами бывалого аборигена я отобрал и купил четыре газеты и "Экспресс". Это был день "Экспресса". Я стеснялся листать издания, и потому неразумно тратил деньги. Во мне всегда, до эксцентричности была развита гордость. Я поднялся к себе. Вместо обещанной атташе дэ прэсс статьи о книге Лимонова (на этот раз точно, Эдвард, уверила меня Коринн по телефону) на несколько страниц растянулась статья о писателях Квебека.
"Кому на хуй нужны писатели Квебека?" - думал я злобно, закурив "житанину". Я стал курить "Житан" вместо "Малборо", они были на три франка дешевле. Иногда, чтобы поощрить себя, я приобретал себе литр рому "Негрита" - самого дешевого алкоголя, какой было возможно обнаружить. У рома был запах неочищенной нефти. В недрах одного из шкафов были спрятаны остатки марихуаны. (В свое время я привез из Юнайтэд Стэйтс несколько унций, предполагая, что трава пригодится мне в стране французов). Марихуану я берег для секса, поскольку даже идиоту известно, что это афродизиак. Трава нужна была мне, чтобы соблазнять женщин и соблазняться женщинами.
Писатели Квебека, счастливцы, в парках и шапках, скалились со страниц "Экспресса". О чем могут рассказать читателю личности с такими вот лицами, как у писателей Квебека? - подумал я. О чем? Миддл-классовые хорошо питающиеся лица обыкновенных людей среднего и преклонного возрастов. Страсти позади. Несложные, как у большинства населения, взгляды на жизнь. Вот этот может быть описал путешествие на собаках через северные области Канады (на фото он был с собаками). Ну и хуля, на лошадях ли, на быках, на собаках, если в голове у тебя обычные скучности, то что ты можешь сказать читателю? Я прикинул, как будет выглядеть на странице моя фотография. "Я ебал вас в рот, идите вы все на хуй, ебаные суки!" - пришла мне в голову последняя фраза моего романа. "Я тут, читатели, на рю Архивов, я здесь, я жив!" - закричал я для пробы и прислушался. За стеной, молодой муж с усиками, он всегда аккуратно здоровался со мной, если мы встречались на лестнице (атташе-кейс, легкое бежевое