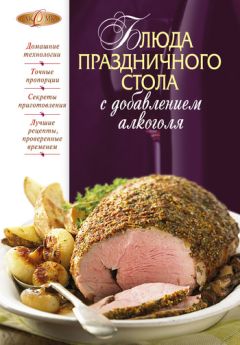Алексей Ремезов - Сказка серебряного века

Обзор книги Алексей Ремезов - Сказка серебряного века
Сказка серебряного века
Со свитой птиц,
С огнем всезрящих глаз
Сквозь наши будни
Ткет нам праздник —
Сказка.
Бергулева-Дмитриева Т.Г
«ЧУВСТВО ТАИНСТВЕННОСТИ МИРА»
Серебряный век русской культуры конца XIX — начала XX столетия был отмечен смешением разных литературных направлений, философских и религиозных течений. «Эпоха была синкретической, — вспоминал Н. А. Бердяев, — она напоминала искание мистерий и неоплатонизм эпохи эллинистической и немецкий романтизм начала XIX века… Было чувство таинственности мира»[1].
Это чувство выражалось у писателей того времени и «в жажде сказочных чудес» (К.Д.Бальмонт):
Противен яркий свет очам больной души,
Люблю я темные таинственные сказки,
— писал Д. С. Мережковский.
Мне нужно то, чего нет на свете…
И это желание не знаю откуда…
Но сердце хочет и просит чуда,
— признавалась 3. Н. Гиппиус.
На рубеже столетий «литературная общественная психология» носила печать неоромантизма, поскольку имела, по замечанию историка литературы С. А. Венгерова, «одно общее устремление куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости серого прозябания»[2].
В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда,
— приглашал в мир свой волшебной «Посолони» А. Ремизов.
Догорал закат старой культуры, а восход новой еще только обозначался. Одни называли время рубежа веков упадком, декадансом, другие — возрождением, ренессансом, но в нем было и то и другое: «…и упадок, и возрождение, и конец старого, и начало нового, и спуск и подъем, и тлен и воскресение, и декадентство и символизм»[3].
В искусстве декаданса отразилось разочарование в идеалах служения народному благу, просвещению, прогрессу. «Ницше обнажил всю тщету безумной веры в бесконечный, научный, посюсторонний прогресс»[4], — писал Е. Н. Трубецкой. В свойственной декадентству проповеди индивидуализма выразился поиск «убежища от все усиливающегося мещанства, пошлости окружающей среды»[5]. Все поколение конца XIX века, по мнению Д. С. Мережковского, носило в душе своей «возмущение против удушающего мертвого позитивизма»[6]. Кризис рационализма, связанный с развитием науки, появлением новых философских концепций привел к разделению понятий непознанного и непознаваемого: мир оказался полным тайн, недоступных рациональному пониманию. Это мироощущение в образной форме выразил Д. С. Мережковский. Твердая почва науки, залитая ярким светом, окружена безграничным и темным океаном, лежащим за пределами нашего познания: «И вот современные люди стоят, беззащитные, — лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веящего из бездны»[7].
Ощущение стояния «на краю трагических бездн» (Ф. Сологуб) было связано не только с кризисом позитивизма, но и с чувством хрупкости мира, с апокалиптическими ожиданиями «светопреставленья», социальных катастроф, «Грядущего Хама», Антихриста.
Переживало кризис и религиозное сознание интеллигенции. «Религия перестала отвечать современной душе», — считал Ф. Сологуб. «Самое глубокое, — говорил о себе А. М. Ремизов, — это мое неверие. И оно неизбывно». «Если же и присуща современному человеку вера, — отмечал М. О. Гершензон, — она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна»[8]. Об этом же писал и А. Н. Бенуа: «Трудна вообще в наше время вера. Мы переросли все исторически сложившиеся религиозные учения и, принимая их все, жаждем последнего вывода из них или только «следующего откровения». Мы находимся в несравненно более остром кризисе человеческого сознания, нежели афиняне времени апостола Павла, воздвигнувшие в своей неутешности храм «неизвестному Богу»[9].
Проблематика религиозных исканий, вопросы духовной жизни обсуждались на религиозно-философских собраниях в Москве, Киеве и Петербурге, на страницах журнала «Новый путь». Вяч. Иванов в своем «дионисийском христианстве» предлагал соединить религию «Святого Духа» (христианства) и «святой плоти» (язычества), «неохристианин» Д. С. Мережковский жаждал царства Третьего завета, в «мистическом пантеизме».
В. В. Розанова обожествлялась Вечно рождающая плоть: «Бог-животное — вот Бог Розанова, — писали о нем критики, — он поклоняется не Богочеловеку, а Человекобогу»[10].
«Гордые идеи Человекобожества» (Н. А. Бердяев) прельщали умы старших символистов Ф. Сологуба, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, Д. С. Мережковского, 3. Н. Гиппиус.
«Люблю себя, как Бога», — с вызовом писала 3. Н. Гиппиус. «Человечество, устранив всякую мысль о Боге, незаметно обожествило самого себя»[11], — утверждал о своем времени Д. В. Философов.
Душа современного человека пребывает в сумерках, считал А. Н. Бенуа: «Расшатаны религии, философские системы разбиваются друг о друга, и в этом чудовищном смятении у нас остается один абсолют, одно безусловно божественное откровение — это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не даст ему погибнуть в отчаянии. Красота намекает на какие-то связи «всего со всем», и она обещает, что будет дана разгадка всем противоречиям до сих пор бывших откровений»[12]. «Красота — вот наша религия»[13], — восклицал М. А. Врубель.
Идея преображения личности и мира красотой и духовностью искусства, идущая от Ф. М. Достоевского и В. С Соловьева, была свойственна господствовавшему тогда художественному стилю модерн. В этой идее выразился эстетический утопизм модерна.
Искусство не только несло в мир красоту. Согласно концепциям «философии жизни» и интуитивизма (Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон, О. Шпенглер), искусству, в особенности поэзии и музыке, отводилась особая роль в иррациональном познании мира, прозрении подлинной сути бытия.
В статье «Ключи тайн» В. Я. Брюсов писал: «Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями (…) Искусство только там, где порывание за пределы познаваемого, в жажде зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной»[14].
Роль «ключей тайн» отводилась художественным символам. Писателю-символисту «нужна способность видеть все преходящее в связи с безграничным духовным началом, на котором держится мир»[15], — считал A. Л. Волынский, связывая свое определение символа с платоновским двоемирием. В том же духе размышляла о символизме 3. Н. Гиппиус: «Все явления стали для нас прозрачными, только символами, за которыми мы теперь видим еще что-то важное, таинственное, единственно существующее»[16]. Теоретик символизма Вяч. Иванов пояснял: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении… Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине»[17]. «На смену «утилитарному пошлому реализму» в России приходит новое идеальное искусство», — считал Д. С. Мережковский. Он провозгласил три главных элемента нового искусства: «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности»[18].
Обращение к символу вело к мифу: «Мы идем тропой символа к мифу. Большое искусство — искусство мифотворческое. К символу же миф относится, как дуб к желудю»[19], — говорил Вяч. Иванов. В символах и мифах стали видеть «переживания забытого и утерянного достояния народной души» (Вяч. Иванов). Миф был — тем универсальным ключом, шифром, с помощью которого хотели постичь глубинную сущность прошлого и настоящего, угадать будущее.
Миф становился не только способом постижения, но переосмысления и преображения жизни. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду», — писал Ф. Сологуб в романе «Творимая легенда».
Превозносилась и возвеличивалась роль художника-демиурга, т. е. творца, постигающего символическую природу всего сущего, средствами искусства создающего новую реальность, новую мифологическую картину мира. «Я бог таинственного мира», — заявлял Ф. Сологуб.
Времена, когда мифы создавались самим народом, остались в далеком прошлом, и мифотворчество писателей серебряного века носило индивидуалистический, личностный характер. Новый мифологизм не обладал прежней органичной естественностью, хотя художники и писатели, обращаясь к мифу, опирались на мифологический опыт прошлого, культурную память человечества, с самым широким диапазоном исторических и географических границ: это и древняя Индия, и античность, и средневековье, и Возрождение, и XVII и XVIII века в России и Европе. Погружение в прошлое у писателей серебряного века, художников «Мира искусства» рождало глубокие историко-культурные параллели с современностью («Прошлое страстно глядится в будущее», — писал А. А. Блок), являлось как бы разновидностью компенсации, так как для эпохи было характерно романтическое чувствование «утраты века, иерархии, класса, «жизни» — чувствование фатальной, неизбывной неполноты бытия»[20].