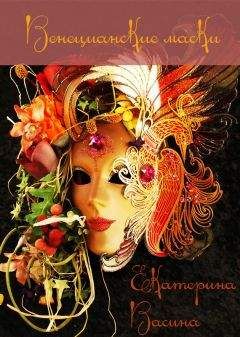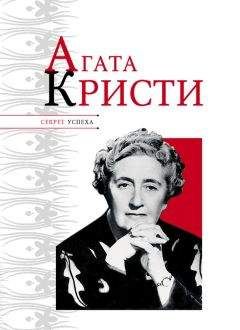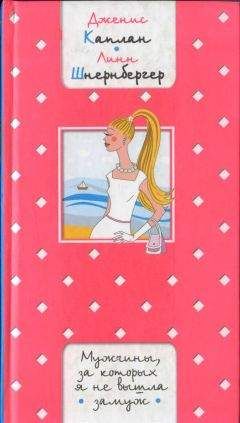Мaйя Валeeва - Люди и бультерьеры
— А я предлагаю выпить за любовь, — задумчиво сказала Ирина и взглянула на меня. Я знала, что она подумала обо мне и Игнатьеве. С тех пор, как Ирина узнала о нашем романе, мои отношения с ней отношения неуловимо изменились. Несомненно, она ревновала меня к своему бывшему любовнику.
… В общем, лениво и расслабленно потек обычный женский треп.
Все мы дружно выпили за любовь. Сначала я подумала о любви к Олегу. Потом о любви вообще — к жизни, к природе, к людям. Любить людей… Но как? Как любить их пороки, их несовершенство, их подлость? Я не знала.
Я смотрела в мягкую речную даль, машинально поглаживая Криса, привязанного рядом. Крис, набегавшийся, еще мокрый, весь перепачканный в песке, блаженно лежал у моих ног, делая слабые попытки стащить с себя намордник. Но снять его я побоялась: на пляже то и дело появлялись деревенские шавки, и никому из нас не хотелось шума, визга и драк.
Нам было хорошо и спокойно.
Никто из нас не заметил, как на пляже появился Дюшес. За ним шли, пошатываясь, еще трое мужиков. И только когда до нас донесся злобный лай Полкана, мы их увидели.
Услышав голос своего ненавистного врага, Крис вскочил и рванулся с такой силой, что чуть не распрямил карабин. Дюшес приближался очень решительно, словно охваченный ясной и конкретной целью. У всех у нас как-то нехорошо похолодело внутри. Наши мужчины были далеко, кричи — не кричи, они не услышат.
— Чего это он?! — испуганно спросила Валя.
— Опять нарывается, козел! — процедила Фарида.
— Я побегу за мужиками, — прошептала Валя, белая, как лист бумаги, и неловко, по-утиному, побежала вдоль берега.
Объятый ненавистью, как пламенем, Дюшес стремительно и торопливо приближался к расположившимся на берегу женщинам. Где-то позади, по садовой аллее бежала за ним Тонька, и он слышал ее слезливые причитания: «Валерочка, остановись! Христом-богом молю, остановись!» Но ее жалкое блеяние только подстегивало его.
— Проклятые сучонки!! Вы… меня! Вы сейчас узнаете, кто я такой! Интеллигенты гнилые! Вы попляшете у меня!
Полкан, возбужденный хозяйской яростью, рвался вперед, морща черную злую пасть.
— А ну катитесь отседа, пока мы вас не отымели всех, ха-ха! — заорал Дюшес, похабно ухмыляясь. — И ты давай, шлюха газетная! — мутные глаза Дюшеса наконец-то отыскали меня и остановились на мне. — Ну че, пугать меня будешь своим кобелем, да?! Ну давай, попробуй!
Похолодев, я смотрела в мутные дюшесовы глаза. Я уже не могла более сопротивляться темному, нутряному, дикому чувству, которое поднималось из самой глубины, лишая меня рассудка и осторожности. Я знала это чувство в себе и всегда боялась его. Сейчас я могла бы, не дрогнув, убить. И также, не моргнув глазом, я могла броситься на ствол, на острие ножа или бритвы. Когда приходит это упоительное, это разрушительное чувство — отступает все остальное…
Имя этому чувству — ненависть.
— Че зенки пялишь?! — орал Дюшес. — Хочешь, я тебя раком поставлю?
Они пьяно загоготали.
Если бы в моих руках был пистолет — я бы выстрелила, не раздумывая.
Но в моих руках был Крис. Сила, которая защитит меня. Рука моя, сжимавшая поводок, разжалась, и Крис, как был в наморднике, прыгнул вперед, на своих врагов. Но и в наморднике он мог покалечить.
Первым на его пути был Полкан. Крис ударил его со всего маха и тут же вдавил в песок. Парализованный страхом, Полкан щелкал длинными белыми клыками, визжал и даже не мог от ужаса укусить или схватить бультерьера, который, лежа на нем, с упоением молотил и молотил его своей тяжелой металлической мордой.
Все это случилось за какие-то две-три секунды, но почему-то всем они казались томительно-долгими… Я выпала из реальности. Погрузилась то ли в шок, то ли в сон. Время попало в какое-то иное пространство и потеряло свои привычные земные рамки.
Поэтому никто не успел заметить, как Дюшес выхватил откуда-то нож.
Крис тем более ничего не видел. Он был упоен, опьянен боем. Его отпустили, его послали на этот бой, и значит он будет давить своего врага до тех пор, пока окончательно не уничтожит. И в этот миг он повернулся к Дюшесу левым боком, и туда, где под широкой мускулистой диафрагмой билось сердце Криса, Дюшес по самую рукоятку вонзил свой длинный самодельный нож.
Бывший уголовник, Дюшес умел убивать.
…Крис так и не узнал за всю свою жизнь, что же такое страх. Он не почувствовал даже боли. Только безмерное удивление: неужели силы оставляют его?! Куда уходят они из его мышц, из его челюстей? Почему?!
Он вдруг оказался высоко над землей (он всегда побаивался большой высоты, но теперь почему-то ему совершенно не было страшно) и увидел неподвижно лежащую на песке белую собачку. Он увидел, как поджав хвост, его враг Полкан отползает в сторону. Он хотел броситься на него, но почему-то не мог… И увидел он еще, как его любимая Мама, его Яна, упала рядом с этой странно неподвижной белой собачкой и закрыла ее своим телом. «Я здесь, я здесь!» — хотел залаять Крис, но у него ничего не получилось. Он видел, как все их друзья склонились над Мамой и белой собачкой. Видел, как к ним подбежали Ребенок и Папа.
И пришел покой. И безмерная, бесконечная любовь.
Когда я открыла глаза, было уже темно. Небо на западе, за неподвижной, белесой массой воды, слабо алело последним отблеском вечерней зари. Небо над головой было холодным, пронзительным, чернильно-синим, с яркими звездами. На пляже было совершенно пусто.
Сырой холодный песок налип на руки, лицо и шею, скрипел на зубах и шелушился в уголках глаз, соленых от слез.
Все было как прежде. Шелестели у берега волны. Мимо станции промчался поезд, и еще долго слышался отдаленный перестук колес. Из деревни слышалось, как далекие пьяные голоса затянули русскую песню. Пройдет ночь, и завтра настанет новый день.
Только Криса больше нет и не будет никогда. И кто в этом виновен, кто?!
Мое горе было таким черным, таким осязаемым, что казалось, я могу до него дотронуться и ощутить руками его поверхность — осклизлую, пористую, смердящую, похожую на чудовище из фильма ужасов.
В какую нору мне зарыться, к чьей груди прижаться, чтобы спастись от рвущего душу одиночества и от своей беззащитности? Где мои самые близкие и родные люди? Никого нет вокруг. Только я и мое горе. Где мой муж, который долго кричал на меня сегодня, возле мертвого Криса? Он обвинил меня во всем. А потом взял сына и уехал в город. Где мои друзья и подруги? Ах да, я их сама послала прочь… Где мой любимый, наконец? Ведь если он любит меня, он не может не чувствовать, как мне плохо сейчас?!
Я не в силах была отогнать одну-единственную мучительную картину, стоящую перед моими глазами: как нож вонзается в мускулистый бок Криса, как он бросает на меня свой последний взгляд, полный детского удивления, как он падает и тут же превращается во что-то каменное и неодушевленное; как черная кровь выползает из маленькой раны и застывает, густея… И как торжествующе хохочет Дюшес.
Это было невыносимо. Слезы вновь потекли у меня из глаз, я зарыдала в голос — так почему-то было легче плакать — и снова рухнула лицом в песок… Отомстить, я должна отомстить Дюшесу!
Я очнулась от чьего-то прикосновения. По голосу узнала: это Рудик.
— Янка, пойдем домой. Не будешь же ты сидеть тут всю ночь! Пойдем, Янка. — голос его был тих и кроток. — На вот, если хочешь, выпей, я и сигарет принес…
Я глотнула водки из бумажного стаканчика. Омерзительно-теплая, она затекла в меня горькой змейкой, и на какое-то время мне будто бы стало легче. Рудик тоже выпил, присев рядом со мной. Мы закурили. Он стал гладить меня по голове, как маленькую девочку, и этот неожиданный жест вновь пробудил во мне острую тоску по сильному и уверенному плечу. Почему со мной рядом нет Олега?! Ведь если бы мы были сегодня вместе, ничего бы не случилось. Никто не посмел бы подойти ко мне, если бы рядом был Игнатьев.
Рудик был не Игнатьев, но ведь именно он, Рудик, был со мной сейчас. Он робко поцеловал меня в лоб, и еще более робко коснулся губ, и тогда я ответила ему жадным и грубым поцелуем. Он растерялся, он затрясся весь от желания и возбуждения, он зашептал бессвязно:
— Милая, милая… я так хочу тебя, я давно тебя хотел… Я люблю тебя…
Я расстегнула ворот его рубашки и провела рукой по волосатой груди. Я сделала это из какой-то злой тоски, словно бы хотела отомстить Игнатьеву за его отсутствие. Я не хотела Рудика. Я хотела, чтобы меня кто-то растоптал, изнасиловал, уничтожил за то, что рядом нет Игнатьева. Чтобы мне стало еще хуже. С мстительным удовольствием наблюдала я за любовным трепетом Рудика, и за собой тоже. Я ощущала его горячее напряженное тело, его мягковатый животик, его небритый подбородок, его неровное дыхание. Потерявший рассудок самец трепыхался надо мной, глаза его закатились, и лицо заплыло масляной пленкой сладострастья. Я смотрела сквозь него, на яркие, высокие и холодные звезды. Я думала о том, что я не верю в абсолютную смерть. И потому мой Крис, я знаю, сейчас там, где-то среди этих сверкающих звезд… И можно ли понять, где и когда кончается жизнь и начинается смерть? Они переплетены, как нити в одном холсте — холсте, которому нет ни конца ни края. И нет конца и края ни у жизни, ни у смерти… И потому умереть — совсем не страшно…