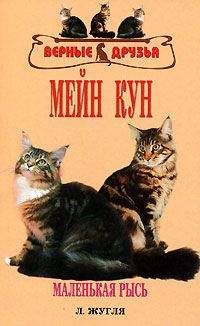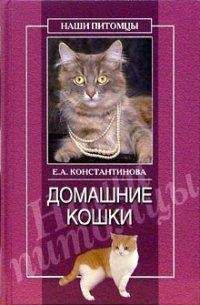Владимир Сачков - Судьба Риголетто
Дядя встал и тяжело зашаркал к небольшому навесному кухонному шкафчику над столом. Он дёрнул за створку и оттуда неожиданно выпало старое радио. Из него на ходу посыпались шестерёнки от будильника. Дядя ругался, видя, что радио, отскочив от стола, упало на пол, но продолжал копаться в шкафу, отыскивая нужный предмет. Потом обо что-то укололся, подфутболил с досады радио и вытащил шило. Его он тоже забросил в угол, но потом, всё-таки, нашёл, что искал. Он показал мне соску. Старую пыльную соску. Он подёргал её пальцами, облизал, и обратился ко мне:
— Знаешь, что, Дядя? Иди-ка ты, это. Домой. Мы уже всё, играть не будем. Ты видишь, мне, это кормить надо. Понял? Ага. — И стал искать в холодильнике молоко.
Так у ребенка появилась мачеха. Она подогревала для него молоко, а он пока спал, спал тревожным младенческим сном без образов, только неяркие вспышки света часто возникали в закрытых глазах — это была зарождающаяся вечная боль. Она пока ничего не значит и почти не существует. Она — такой же младенец, как и он. Эти двое ещё не знают друг друга. Но они будут расти вместе как неразделённые сиамские близнецы. Вместе будут крепнуть, вместе взрослеть, но страдать будет только один, потому что только он сотворён из мяса, костей и нервов, а она — как душа — неуловимая, без формы и без образа, сознавая свою безнаказанность, каждую секунду будет убивать и уродовать его. Она будет резвиться.
* * *Три месяца он не вставал на ноги. Ел очень мало и рос тоже очень мало. За три месяца из щенка вырастает половина собаки, а он не вырос и на одну четверть. Дядя пытался собственноручно ставить его на четыре лапы, но тоненькие хилые конечности без мышц болтались как тряпки и больше напоминали не собачьи ноги, а картонные ножки марионетки без нитей управления.
Он не любил подобные процедуры и всякий раз, когда Дядя (терпеливый санитар!) подходил к нему с намерением проделать очередной сеанс, он уже чувствовал это и начинал жалобно верещать. Дядя осторожно брал его грубыми руками, но при первом же прикосновении к хилому тельцу щенок взвывал и продолжал голосить до тех пор, пока его не оставляли в покое. А Дядя, в очередной раз, потыкав инвалидного ребёнка в пол, плевался и ложил его на место.
— Никак, падла, не хочет стоять. Ну, ничего. Завтра, это, ещё попробуем.
Я удивлялся — откуда у этого железного дровосека столько терпения? Два месяца он кормил щенка из соски и убирал за ним. Несколько раз я видел, как он, высунув кончик языка, толстым пальцем неуклюже подпихивал ему под нос мягкие крошки хлеба и кусочки варёной колбасы. Но у щенка совершенно отсутствовал аппетит. Иногда Дядя насильно кормил его и, действуя тем же самым пальцем, заставлял проглатывать пищу.
Он жил в первой после кухни комнате, справа от прохода, на полу, на старой фуфайке. Я заметил, что спал он только на правом боку. Он и жил на правом боку, немного привалившись к стене. Не было минуты, чтобы он не попискивал, а иногда нервно взвизгивал, и это взвизгивание напоминало человеческий звук — ай!
— Да что это такое? — недовольно ворчал Дядя, — ни днём ни ночью не, это, не затыкается. Всё пи-пи, да, это, пи.
— Может, у него что-то болит? — предполагал я.
— Конечно, болит. Ага. И я знаю что. У него, это, позвоночник сломанный.
— Откуда ты знаешь?
— Я знаю! — громко заявил Дядя, — у меня тоже было такое. Ага! Так что, я знаю, — и так твёрдо посмотрел на меня, что я понял — действительно знает.
— Так что же делать? Надо же как-то лечить?
— Никак ты это не вылечишь. Оно или заживёт или, это, не заживёт.
Проходили дни, но «оно» не заживало. Щенок продолжал свою малоприятную лежачую жизнь. Боль его не оставляла, но он стал изменяться. Сразу после шеи, над лопатками, я заметил небольшой горбик. И однажды, в конце лета, когда мы вечером играли с Дядей в шахматы, а за открытой дверью кухни шумел дождь, Дядя вдруг снял очки и посмотрел вправо. Я тоже посмотрел туда и на полу, в проходе, увидел удивительную вещь — там, шатаясь на слабых ногах, стоял Дядин выкормыш. Стоял! Он стоял, как-то, боком, размером был не больше взрослого котёнка и смотрел на нас грустными глазами Пьеро.
— Ух ты! — изумился дядя, — он пошёл! Он, это, пошёл! Ну, иди сюда, падлочка, иди.
И Дядя, сияя ржавой улыбкой старых зубов, поманил его к себе. Он умильно наблюдал, как его чадо, немного поколебавшись, двинулось в первый путь. Раскачиваясь и невпопад перебирая лапками, оно боком пробиралось к прородителю. А тот подбадривал, помогал каждому шагу:
— Вот так! Вот так, ну, ещё раз, это. Во-о, молодец!
— Смотри-ка, идёт, — радовался я вместе с ним.
— А как же! У него теперь свой ход. Это не ход, это пароход! Ага.
Юный инвалид понял, что доставил радость людям. Он и сам хотел улыбнуться, но не получилось. Он очень хотел повилять хвостом, но не вышло — тоненький обрывок бечёвки не желал слушаться. Дядя хотел погладить его по холке, но он предупредил:
— Ай!
Дядя одёрнул руку, а потом, всё же, осторожно, одним пальцем потёр его между глаз.
— Как ты его называешь? — спросил я.
— Да никак, — пожал плечами Дядя, — кутя — и всё.
— Так нельзя. У собаки должно быть имя.
— Да? Ну и что ты, это, предлагаешь?
Я думал не долго.
— Риголетто!
— Риголетто? — переспросил Дядя, — эт что за хрен?
Я стал пересказывать ему оперу Верди, но, чтобы не слишком утомлять, начал с финала, когда на руках у горбуна умирает несчастная Джильда.
— У горбатого, говоришь, дочка померла? Ещё и Джильда! Вот это имя собачье. А Риголетто, это, что? Какая-то Рига и какое-то лето. Тьфу!
Я настаивал, уверял, что Риголетто самый известный в мире горбун и он, в конце-концов, согласился.
— Понял? Ты будешь Риголетто, — сказал Дядя щенку.
Тот утвердительно кивнул. Кажется, имя ему понравилось и, кажется, с этого момента он стал осознанно тащить по жизни свой горб.
Всю осень и половину зимы я провёл вдали от дома, но в январе работа отпустила. Я вернулся и, соскучившись по Дяде, решил его навестить. Стряхивая на пороге снег с сапог, услышал за дверью какой-то звук, похожий на лай. Риголетто! Вошедши, увидел Дядю — тот зашивал сапог, а посреди кухни, опять же, в окружении старого хлама, пошатываясь, торчал Риголетто.
— Га!…
Он не закончил короткого собачьего слова, закашлялся и запричитал от боли — нечто похожее на ай-ай-ай. Он вырос, но, всё равно, размером был не больше кота и, по-моему, обрёл окончательную форму. Туловище у лопаток было согнуто почти под прямым углом влево, и напоминало живую букву Г, а над головой возвышался большой горб, под которым на меня из-под маленьких серых бровей смотрели два тёмно-коричневых шарика — глаза. В этом взгляде навсегда поселилось страдание.
Он меня узнал и, сморщив нос, молча подобрался к ноге. Голова почти срослась с горбом, отсутствие шеи не позволяло ей двигаться. Иксообразные хилые ножки с длинными когтями разъезжались в стороны и с трудом удерживали небольшое тельце, покрытое короткой шерстью рыжего цвета. Напрягаясь, он взглянул на меня снизу вверх, так что внизу глаз показались белки. Ему было трудно так смотреть — ведь голова не двигалась, не поднималась, навсегда застыв в одном положении. Чтобы ему было легче, я присел. Осторожно погладил пальцем по лбу, между глаз. Горбатый карлик печально принимал ласку.
— А-а! Вот тебе, Риголетто, и Дядя пришёл, — Юрий Васильевич тоже обрадовался моему приходу.
Он отложил в сторону сапог.
— Ну, что, сыграем? — Носов потянулся за шахматами, — и за одно, это, расскажешь, где пропадал.
Мы играли, я ему рассказывал, где пропадал. И я на время забыл о Риголетто. Дядя мне жаловался, что на него напала «алегрия», что невозможно употреблять молочное, что от молочного у него распухает рожа и он покрывается пятнами, что не может найти лампу на телевизор и, что иногда достаёт старая боль в спине. Потом попросил у меня спички и, когда я резко поднялся, чтобы достать их, рядом со мной жалобно завизжал Риголетто.
— Это он предупреждает, чтобы его не задели, — объяснил Дядя.
И я понял, что такие случаи были. Дядя не смотрел под ноги, когда ходил. Видимо он не раз наступал на беднягу или задевал ногой. Я подозвал испуганного Риголетто и попытался успокоить — два раза осторожно погладил по спине, стараясь не коснуться горба. На третий он опять дёрнулся и заверещал: ай-ай-ай! Я не понял почему — ведь я совсем не давил на него.
— Во! Вот так он всё время визжит, — показывал пальцем Дядя, — я думаю, это, у него позвоночник не правильно сросся. Ага. И ночью вот так и днём.
— И из дому, это, не выходит — по ступенькам, это, слезть не может. А в руки, чтобы вынести не даётся, падла, визжит, как эта недорезанная, как её? Ага. Я коробку с песком поставил.
Дядя показал рукой под ржавую раковину в углу: