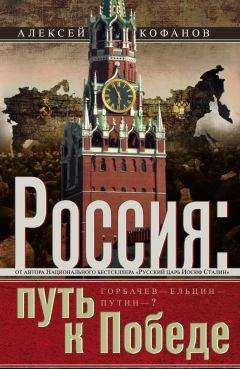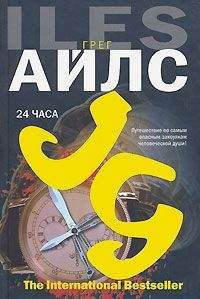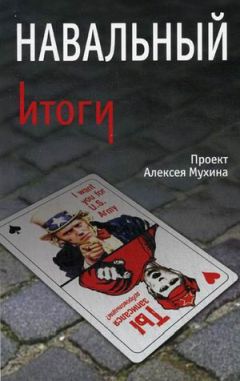Патриот - Навальный Алексей
А я — вообще норм. Даже «мой» оперативник сказал во время очень надоевшего полного обыска с раздеванием: «Я смотрю, вы не очень-то расстроились».
Действительно, вообще не расстроился и сел писать это, потому что не силой воли «держал лицо», изображая равнодушие и беспечность, — реально сработал тюремный дзен.
Я с самого начала, конечно, знал, что сажусь не на 2,5 года. А, видимо, пожизненно, с двумя опциями: до конца моей жизни или до конца жизни этого режима.
Такие режимы бывают живучи, и самое глупое в этой ситуации — слушать и самому себе повторять вот это: «Лёша, режиму остался год максимум. Ещё год, самое большее два — всё рухнет, и ты выберешься», ну и всё в таком ключе. Мне это очень часто пишут.
СССР просуществовал 70 лет. Северная Корея и Куба существуют и сейчас. Китай с кучей политзэков существует так долго, что они умирают в тюрьмах, а режим слабины не даёт и никого не выпускает, несмотря на международное давление.
Правда заключается в том, что мы не очень-то понимаем, насколько живучи автократии в современном мире, где они (за редкими-редкими исключениями) защищены от внешнего вторжения международным правом, ООН, суверенитетом и так далее. А Россия, хоть и ведёт прямо сейчас классическую агрессивную войну против Украины (что умножило на десять разговоры о скором крахе режима), ещё и защищена членством в Совбезе ООН и ядерным оружием.
Экономический крах и обеднение — да, они нас ждут наверняка. Ситуация, при которой власть падёт так, что её обломки, падая, откроют двери тюрем, неочевидна.
У меня, безусловно, нет к этому пассивно-созерцательного отношения, я отсюда стараюсь делать всё, что могу, чтобы сокрушить авторитаризм (или, скажем скромнее, способствовать его сокрушению). Каждый божий день я думаю о том, как действовать более эффективно, что хорошего посоветовать своим коллегам на свободе, где самые уязвимые места режима. Но вот этот wishful thinking [26] — «режим падёт, и я скоро выйду» — в моей ситуации губителен.
Ну и что ж теперь, если я не выйду ни через год, ни через три?
В депрессию впасть? Обвинять всех в том, что они недостаточно стараются, чтобы меня вытащить? Проклинать международных лидеров и вообще общественное мнение за то, что они меня забыли?
Так или иначе, рассчитывать на скорый выход и ждать его — значит самого себя изводить.
Я сразу решил: если выпустят в результате давления или каких-то политических раскладов, то — в течение полугода. Что называется, по горячим следам. А раз этого не произошло, значит, я попал надолго. И к этому надо психологически подстроиться, чтоб, когда будут продлевать срок, я чувствовал себя не менее, а даже более уверенно, чем в тот момент, когда сел в самолёт в Москву.
Изложу план моей подготовки — может, кому пригодится (хотя лучше бы не пригодился).
Первый приём хорошо известен, о нём часто пишут в книжках: «Представь всё самое худшее и смирись».
Надо сказать, что это реально работает, хотя упражнение слегка мазохистское, конечно. И, думаю, оно не очень подходит тем, у кого настоящая депрессия, — такие могут и до петли доупражняться.
И ещё его довольно легко применять, потому что навык есть у каждого с детства. Помните, как вы рыдали в кровати и со сладким торжеством представляли себе, что вот вы умрёте сейчас всем назло и вот тогда посмотрите на лица этих ужасных родителей? Как они будут плакать, как они поймут наконец, кого потеряли. Как, задыхаясь от слёз, они будут обращаться к вам, тихо и мирно лежащему в гробике, с мольбами встать и пойти смотреть телевизор не то что до десяти, а даже и до одиннадцати вечера, лишь бы жил! Но поздно: вы уже умерли, а значит, непреклонны и глухи к их мольбам.
Ну вот, здесь похоже.
Ложишься на нары, ждёшь команды «Отряд, отбой» с выключением света (лучший момент суток с огромным отрывом) и спрашиваешь себя максимально честно: ну давай прикинем, что может случиться самого плохого, и смиримся с этим, пропуская стадии отрицания, гнева и торга.
Я проведу остаток своей жизни в тюрьме и умру здесь. Никто со мной даже не попрощается. Или наоборот: пока я сижу, переумирают все на воле, и я не смогу проститься.
Пропущу окончания школ и колледжей у детей, квадратные шапочки с кисточками будут подбрасывать без меня. Все юбилеи пройдут без меня. Не увижу внуков, не стану героем ни одной семейной истории. Меня не будет ни на одной фотке.
Обдумывать это надо не иронически, а серьёзно. И вскоре жестокое воображение понесёт вас по вашим страхам так быстро, что к остановке «глаза полны слёз» вы прикатите моментально. И тут важно не изводить себя гневом, ненавистью и мечтами о мщении, а сразу перейти к принятию. Это бывает нелегко.
Помню, один из первых таких сеансов пришлось прервать, потому что от мысли: «Умру здесь, забытый всеми, и меня ещё как зэка похоронят в безымянной могиле, сообщив родственникам, что, согласно закону, место захоронения не раскрывают» — я с трудом удержался, чтобы не вскочить и не начать в бешенстве крушить всё вокруг, переворачивая шконки и тумбочки с криками: «Суки, вы не имеете права хоронить меня в безымянной могиле, это незаконно и несправедливо!» Мне действительно хотелось это кричать.
Но вместо криков нужно спокойно это обдумать. Ну окей. Так случится, ну и что? Бывает ведь похуже.
Мне 45, у меня семья, дети. Я прожил какую-то жизнь, чем-то интересным занимался, что-то полезное сделал. А вот сейчас война — девятнадцатилетний парень едет на броне, осколок в голову прилетел, и всё: ни семьи, ни детей, ни жизни. В Мариуполе сейчас мёртвые мирные жители на улицах валяются, их собаки обгладывают, и для многих из них братская могила будет лучшим исходом. И вообще ведь ни за что. Я-то сам сделал свой выбор, а там просто жил человек, работал, семью кормил. И в один прекрасный вечер злобный карлик из телевизора — президент соседней страны — объявил его нацистом и заявил, что он должен умереть, потому что Украина была создана Лениным. И завтра к нему в окно прилетит снаряд, и нет у него больше ни жены, ни детей, и самого его нет.
А сколько вокруг зэков невиновных! Ты с пакетом писем сидишь, а у него ни письма, ни передачи. Заболел и умер в тюремной больнице. Один.
А диссиденты в СССР? Марченко умер от голодовки в 1986 году, и через пару лет чёртов Советский Союз развалился.
Так что даже худший из возможных сценариев совсем не такой и худший, если хорошенько подумать. Надо брать. Смиряюсь и принимаю.
Очень мне с этим помогла Юля. Я не хотел, чтоб и её мучило вот это: «А вдруг через месяц отпустят», и — главное — чтоб она понимала, что я тут совсем не страдаю, изнывая от тюремных тягот. Поэтому на первом длительном свидании, гуляя по коридору и переговариваясь в месте, максимально удалённом от натыканных везде камер с микрофонами, шепчу ей на ухо:
— Слушай, я не хочу звучать драматично, но, я думаю, есть большая вероятность, что я отсюда никогда не выйду. Даже если всё рушиться начнёт, они меня просто грохнут при первых признаках краха режима. Отравят.
— Я понимаю, — кивает она. Голос её звучит твердо и спокойно. — Я сама об этом думала.
Мне сразу хочется её схватить и сжать изо всех сил от радости — так здорово всё-таки! Никаких дурацких слёз. Именно в такие моменты понимаешь, что нашёл правильного человека. Ну, или она нашла тебя.
— Поэтому давай просто для себя решим, что так, скорее всего, и будет. Типа, примем базовый сценарий и станем строить жизнь, исходя из этого, ну а если уж будет лучше, то отлично. Но мы на это не рассчитываем и не надеемся зря.
— Ага, так и сделаем.
Голос её, как обычно, звучит как у какого-то мультяшного персонажа, но она совершенно серьёзна. Смотрит на меня снизу и хлопает своими глазами с огромными ресницами.
Тут уж я не выдерживаю и хватаю её в охапку, сжимая от восторга: ну где ещё найти человека, который такие важные и сложные вещи обсудит с тобой без драм и заламывания рук? Она сама всё отлично понимает и, как и я, надеется на лучшее, но готовится к худшему.