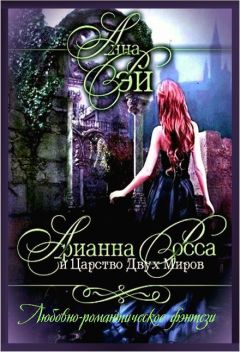Борис Парамонов - След: Философия. История. Современность
Надо сказать, что такая мотивировка создавалась не столько самой российской императорской властью, сколько частью русской интеллигенции — именно, славянофильским ее крылом. С западными славянами заигрывали уже классики славянофильства, например Хомяков, пытавшийся установить московское духовное влияние на чешский культурный истеблишмент. Но на теоретический уровень эти притязания были выведены неославянофилом Николаем Данилевским, создавшим теорию так называемых культурно-исторических типов. Культурно-исторический тип, по Данилевскому, — это некая вечная и неизменная форма той или иной культуры, не могущая измениться, перейти в другую, даже воспринять какие-либо элементы другой культуры — как не может лиса стать ежом. Культурно-исторический тип — это почти то же самое, что биологический генотип; и действительно, теория Данилевского была построена на биологических аналогиях (он и сам был довольно видный биолог, давший, между прочим, очень квалифицированную критику тогдашней модной новинки — дарвинизма). Данилевский выделил, в числе других, особый славянский культурно-исторический тип. Судьба славянства — не просто России, а именно славянства — была противопоставлена судьбам остальных культур, осознана как совершенно особая и самостоятельная. У нас нет оснований говорить о теории Данилевского как о сознательном выполнении социального заказа, продиктованного нуждами тогдашней российской внешней политики; но мы не можем отрицать другого — того, что эта теория, ставшая основой так называемого панславизма, много послужила идейному обоснованию этой политики, ее движению на Балканы, в область западного и южного славянства. Панславизм безусловно сыграл значительную роль как мотивировка такой политики, более того — его идеи оказали непосредственное воздействие на ряд тогдашних влиятельных русских политиков, на политические верхи.
Нам незачем также сейчас подвергать теорию Данилевского имманентной критике как культур-философское построение (а это неверная теория, конечно, не заметившая главного в культурной истории человечества — именно, свободы человека, а значит, возможности для него действовать вне всяких якобы предначертанных рамок). Но необходимо отметить, что теория, обосновывавшая на такой лад миссию России в славянском мире, вызвала критику эмпирического характера со стороны человека, бывшего, во-первых, знатоком балканских реалий, а во-вторых, в общем схожих со славянофильскими взглядов. Я имею в виду, конечно, Константина Леонтьева, много лет служившего на дипломатической службе как раз в этих странах в славянских владениях Оттоманской империи. Леонтьев резко и недвусмысленно восстал против этого мифа — о якобы существующем родстве культурного типа русского и балканского славянина. Балканский славянин, утверждал он, основываясь на собственном многолетнем опыте, — это человек, уже полностью и бесповоротно отдавшийся западноевропейским культурным влияниям, влившийся в ненавистную Леонтьеву «пиджачную цивилизацию» буржуазного типа. Если уж на то пошло, говорил Леонтьев, то как раз Турция, вообще Восток с его экзотикой и традиционализмом, ближе России, чем пресловутые братья-славяне; во всяком случае, самому Леонтьеву куда больше европейских пиджаков и котелков нравился мир гаремов, базаров и умащенных ароматическими маслами мальчиков, борющихся для услаждения публики. О вкусах не спорят, но ясно, что в отношении балканских славян Леонтьев был совершенно прав: этот регион уже тогда явно тяготел к Западной Европе, а не к России.
Подобного рода свидетельства очевидцев можно умножить. Взять хотя бы князя Мещерского — одно время соредактора Достоевского по газете «Гражданин». В 1877 году — как раз в год начала русско-турецкой войны, он выпустил книгу путевых очерков «Правда о Сербии». В ней между прочим говорилось:
Интеллигент сербский наивно глупо и дерзко верит, что русские — Пушкин и Карамзин, перед ним, мальчишки, неучи и ученики… Серб, который с вами заговорит по-русски, — вы это видите по лицу его, — дает вам понять, что он делает вам большую честь… молодежь, как только она интеллигенция, не только не симпатизирует русским, но находит себя вправе смотреть на них свысока… Воспитание культурной сербской молодежи получается в их белградском лицее… Там учат профессора, все получившие образование или в Германии, или во Франции… Образчиками этой культурной молодежи служат офицеры в сербской армии. Как только этот офицер культурен, он держит себя особняком от русских…
Русско-турецкая война 1877–1878 годов, как известно, способствовала окончательной утрате Турцией ее балканских, славянских владений. Не без определяющей помощи России были созданы два новых независимых славянских государства — Сербия и Болгария. Это совсем не означало, что указанные государства попали в колесницу русской внешней политики, русские триумфы в этих странах были весьма недолгими. Скорее, тут возобладало немецкое влияние. С другой стороны, Сербия и сама выступала с претензией на роль объединительницы всего южного славянства, у нее с самого начала были империалистические замашки. Она с неменьшими, чем Россия, амбициями видела себя в роли наследницы Византийской православной империи. Никаких особенных прорусских партий в Сербии не было. А вот в России создалась сильная просербская партия, лобби, как сказали бы сейчас. Ее возглавляла жена великого князя Николая Николаевича — дяди последнего российского императора, черногорская княгиня Милица. Давлению этого лобби мы в очень заметной степени обязаны вступлением в войну 1914 года. Так что роль Сербии в русской истории оказалась поистине роковой.
Но понятие рока тем характерно, что он повторяется, воспроизводится, выступает как некое вечное предопределение: такое предопределение, неизбежная судьба и есть рок. И вот сейчас снова в России идут весьма настораживающие разговоры о Сербии и исторической роли России в ее славянских связях, о ее миссии защитницы и освободительницы славянства. Эти разговоры основываются, как мы видели, на мифе, на идеологическом артефакте. Сербы в очередной раз пытаются Россию использовать. Конечно, в войну на своей стороне затянуть им Россию на этот раз не удастся, но какой-то навар они получат, собственно, уже получили от российской идеологизированной позиции. Причем в очередной раз идеологический мотив совпадает с империалистическим: ведь говорить об активном вмешательстве России в нынешние сербские дела могут только люди с неизжитой империалистической психологией, страдающие по исчезнувшей империи: уж раз Польша, Чехия и Болгария откололись, так по крайней мере за сербов уцепимся, поиграем в протекторов. Все это смешивается в какое-то весьма неприятное и дурно пахнущее месиво. Идеология, идеологические мифы, как видим, остаются действенными даже тогда, когда исчезла какая-либо политическая прагматика. О том, как эти мифы одуряюще действуют, можно судить хотя бы по высказываниям одного из величайших и умнейших — именно умнейших! — русских людей, Федора Михайловича Достоевского, отдавшего большую дань славянскому мифу. Но именно его случай ярче других показывает — если, конечно, хорошенько присмотреться, — какие действительные мотивы стоят за этой мифологией. Присмотримся к Достоевскому, к его славянскому комплексу.
Как известно, великий русский писатель был трубадуром войны с турками за освобождение славян. Этой теме он посвятил массу текстов в своем «Дневнике писателя». Авторитет Достоевского огромен и непререкаем, поэтому соответствующие его высказывания по славянскому вопросу, несомненно, служат на пользу, лучше сказать — подстрекают и нынешних сторонников вмешательства России в балканские дела. Конечно, у Достоевского мотивы и мотивировки для такого вмешательства были более вескими, чем у нынешних защитников сербов: те говорят о каком-то смутном славянском братстве или о традиционной роли России в балканских делах, а у Достоевского за его прославянством стояла целая историософская или даже религиозная концепция. Звучал-то он, конечно, солиднее, — что отнюдь не означает, что он был прав. Достоевский говорил в связи с балканским кризисом 1877 года о появлении в мире так называемой третьей идеи. Первая идея была римская, всемирная, имперская; вторая — германо-протестантская, внесшая в европейское сознание тему о личности и ее правах. А сейчас, значит, появилась третья всемирная идея, славянская; в сущности же не столько славянская, сколько русская и православная: в православии, считал Достоевский, осуществляется естественный синтез двух первых идей — всечеловечности и личности, решение этой антитезы на чисто христианский лад: личность, добровольно жертвуя собой во имя надындивидуальной правды, тем самым не подавляет себя, а всячески обогащает. О том, как эта русская идея реализовалась в последующих событиях отечественной истории, говорить не стоит: не будем посыпать раны солью. Вернемся на тогдашнюю позицию Достоевского. Факт православия славянских народов был для него определяющим в построении его панславистского варианта: православие общее, а государственная мощь у России; значит, быть ей вождем славянского мира и носителем этой третьей идеи. И крайне интересно, что Достоевский, этот ум, прозревавший на столетие вперед, когда он не стеснял себя сторонними догмами, — влезая в эту тематику, начинал звучать как какой-нибудь малограмотный уездный прихожанин. У него в «Дневнике писателя» совершенно серьезно говорится о том, что греко-болгарская церковная распря имеет колоссальное значение для будущего России и всего славянства. Кто сейчас помнит об этой распре? какой медведь в Калужской губернии, говоря словами того же Достоевского? И вот эта, с позволения сказать, проблема подвигла великого русского писателя на такие слова: