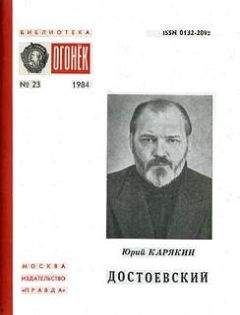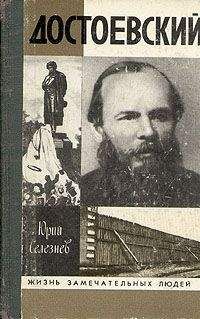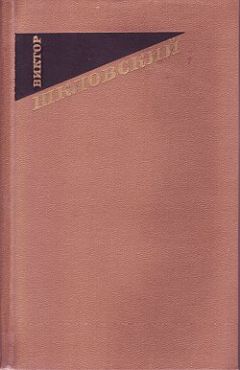Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
Перечитаем эти стихи, подумаем над самим этим отбором-выбором, которому суждено было оказаться последним. Здесь, может быть, самое достоевское в Пушкине, отобранное самим Достоевским…
В воскресенье, 25 января, он внезапно и серьезно занемог, а в среду, 28 января (9 февраля), скончался, в 8 часов 38 минут вечера.
9 февраля умер Достоевский, 10 февраля — Пушкин.
Один не дожил до шестидесяти, другой — и до тридцати восьми.
Странно, знаменательно, навсегда сошлись эти даты, эти имена.
…Достоевский к пятнадцати годам знал всего Пушкина чуть не наизусть.
Младший брат Андрей Михайлович вспоминал: «Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского, даже между преподавателями словесности, — она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократно горячие протесты со стороны братьев, в особенности брата Федора».
Какой поразительный слух у этого подростка, еще мальчика даже. Любовь его к Пушкину оказалась великим угадчиком. Но значит: уже изначально была в его душе какая-то струна, которая и отозвалась на речь еще живого тогда Пушкина.
Достоевскому было пятнадцать, когда Пушкин умер.
«…Известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон матушки (она умерла 27 февраля, 11 марта по новому стилю, 1837 года. — Ю.К.) <…> Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину» (А.М. Достоевский).
Весной 1837-го Михаил и Федор Достоевские отправились в Петербург. «Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух» (22; 27–28).
И все-таки пятнадцать лет Пушкин и Достоевский вместе прожили на этой земле, то есть: могли встретиться. И Достоевский мог видеть Пушкина живым, слышать его, спросить о чем-то…
Знаменитое анненковское издание сочинений Пушкина сопровождало его всю жизнь, как и Евангелие, подаренное ему — каторжнику — женами декабристов. Он следил за каждой новой публикацией Пушкина, за каждой вестью о нем.
Можно сказать: он всю жизнь свою боролся за понимание в России пророческого значения Пушкина. На Пушкине проверял он людей, литературу, себя. Мне кажется, что если он кого и боялся в своей жизни земной, так это — Пушкина. Что сказал бы Пушкин? — этот вопрос жег, мучил и возвышал его всю жизнь, как и Гоголя.
«Ведь и мы к современным вопросам прошли через Пушкина; ведь и для нас он был началом всего, что теперь есть у нас. <…> Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития» (18; 103).
«Наши критики до сих пор силятся не понимать Пушкина» (20; 168).
«У нас все ведь от Пушкина» (22; 43).
«Родоначальник всего Пушкин» (23; 191).
«Скажи мне одно слово (Пушкин), но самое нужное слово» (24; 239).
«…все вышли из Пушкина. <…> Его новое слово было столь глубоко и широко, что, может быть, целого столетия мало, чтоб его постигнуть» (25; 245).
«Умаление Пушкина как древнего и архаически преданного народу — почти бесчестно» (26; 199).
«Пушкин был первый русский человек» (26; 204).
«Надо учить молодежь, что непонимание Пушкина есть величайшая неблагодарность, что, не понимая Пушкина, нельзя назваться даже русским человеком» (26; 207).
«И Христос родился в яслях, может, и у нас родится Новое Слово.
Пока, однако, у нас Пушкин» (26; 218).
Достоевский о Пушкине — одних прямых текстов на эту тему, наверное, достанет на целый том. Но я приведу здесь еще только три (буквально: три) его слова из записной книжки. Это — из яростного полемического наброска о путях России. Достоевскому снова и снова надо выразить свой идеал во всей его неотразимости и надо увидеть хоть намек на его воплощение. И вот из-под пера его и вырываются невольно эти три слова, о которых можно сказать пушкинские же: «движение минутное», «вольное чувство», «искренность вдохновения». Вот эти три слова: «…но Пушкины победили» (26; 194).
Тут замечательнее всего то, что Достоевский для себя одного это пишет, как бы сам с собой разговаривает, и нет для него ничего убедительнее и желаннее, надежнее и прекраснее, чем: «…но Пушкины победили»!
«Пушкины» — так еще никто не говорил.
Перед нами мечта Достоевского — о пушкинском будущем России.
Вот исторический факт, вот уже заслуга навсегда: никто так много не сделал для утверждения этих мыслей и чувств, как Достоевский. Всю жизнь он и жил ими. Здесь он был однолюб. Может быть, даже и не было у нас такого пушкинского однолюба, как Достоевский. Всю жизнь он искал «самое нужное слово» — слово пушкинской силы — и особенно ясно, исповедально, пламенно сказал его 8 июня 1880 года.
А в ночь с 8 на 9 июня подъехал в пролетке к памятнику Пушкину — с тяжелым лавровым венком, которым сам был увенчан днем, и возложил его к подножию — в одиночестве, в полутьме… Мгновение тихое, великое. О чем он тогда думал? Что чувствовал?..
Но вскоре произошла встреча другая: 29 января (10 февраля) 1881 года, на вечере памяти Пушкина. Председатель Орест Миллер говорил: «Нам приходится поминать не только Пушкина, но и Достоевского… Вот теперь, именно в это время, должен был бы приехать Достоевский и быть горячо приветствован нами…»
Вместе с портретом Пушкина выставлен был и портрет Достоевского, обрамленный черным крепом… Впервые — рядом. И теперь уже навсегда.
Пушкин прожил всего 13 764 дня, Достоевский — 21 641 (а Толстой — 30 013).
«Мы на земле недолго…»
Когда считаешь, рассчитываешь жизнь годами, она почему-то кажется и дольше, и крепче, и от тебя независимее, как будто кто-то строит твою жизнь или она сама как-то строится. А когда — днями, то вдруг кажется она и короче, и бреннее, но — и вместительнее внутри самой себя, и вдруг острее сознаешь, что — строишь сам, что каждый день твой — кирпичик, и ты сам его лепишь, сам кладешь, и ни одного уже потом не сменишь, не выкинешь. В годовом расчете больше простора для самообмана, чем в дневном.
Но речь, конечно, не столько о буквальном счете на дни (он тоже может превратиться в несвободу), но об остром и постоянном внутреннем ощущении этого счета, ощущении бега дней и цены каждого дня.
Таким ощущением и был пронизан Достоевский («каждое мгновение могло быть веком счастья»). И Толстой — как мало кто. Он даже Пушкина упрекал в том, что тот — разбрасывался, мало думал о смерти. Упрек несправедливый. Как раз в Пушкине, как ни в ком, было непостижимое соединение совершенной свободы духа с этим ощущением неумолимого бега времени:
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать…
Как привыкли мы к фразам: «Пушкин, Достоевский, Толстой не умерли, они только ушли в бессмертие свое…» О да, конечно. Они (как и Сервантес, Шекспир, Гомер) вроде бы и не умирали вовсе для нас, даже и не рождались, а всегда были и есть, как небо, солнце, земля, горы… Почему так? Не потому ли просто, что родились, жили и умерли они — не при нас? Ведь сказал же человек, при котором Пушкин умер: «Солнце закатилось»… А для нас оно — вечное.
«Ушли в бессмертие»… А сколько унесли с собой навсегда. А как не хотелось им уходить туда, в бессмертие это, из живой жизни своей.
Пушкин и об этом сказал за всех — простодушно, светло и больно:
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…
А потом — Ахматова (в отчаянии, но и, как всегда, в достоинстве):
Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз…
И не хотелось им уходить туда не потому только, что недовзяли они от жизни, от людей, а потому больше всего, что недодали ей, жизни этой, недодали им, людям этим, нам — всего, что жаждали, мечтали, могли отдать.
Как представить себе всю остроту, боль, всю безмерность этой потери?
Вообразить, будто Достоевский живет сейчас, здесь, среди нас — и вдруг умирает?..
Или вспомнить его планы, наброски, оставшиеся неосуществленными?.. Вспомнить: «лишь начинаю», «пока только леплюсь»…
Или самим перенестись туда, в то время…
Пятидесятитысячная процессия от Кузнечного переулка, через Владимирскую, Невский, к Александро-Невской лавре, а потом — на Тихвинское кладбище при ней…
«Похороны, вынос, вообще все эти дни были что-то никогда не виданное. В России никого так еще не хоронили» (из письма современника)…
Иван Аксаков: «Достоевский умер! Потеря незаменимая! <…> В нашей современной литературе это была чуть ли не единственная положительная сила, не растлевающая, не разрушающая, а укрепляющая и зиждительная…»