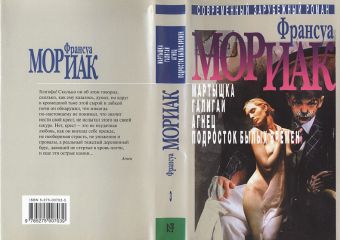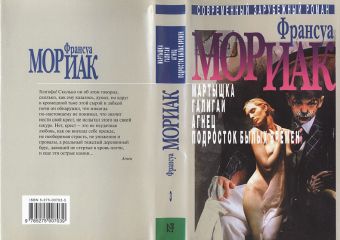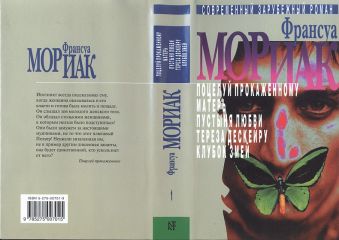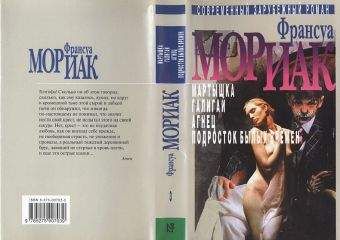Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
III
Но что же делать романисту в обществе, где остается все меньше романных конфликтов? Во-первых, он может, чтобы не ходить далеко, воспользоваться знаменитым изречением Сен-Реаля*: «Роман — это зеркало, которое несут по большой дороге». Метод этот крайне прост и, как нам известно по опыту, плодотворен. Одним словом, писатель может, не ставя перед собой особых задач, изображать эпоху такой, как она есть, старательно исполнять свое ремесло историка общества. В этом случае даже отсутствие конфликтов не приведет его в замешательство, а станет предметом изображения. Недавно так писал Абель Эрман. Сейчас на это расточает свое незаурядное дарование Поль Моран *; в «Открыто ночью» и «Закрыто ночью» он показывает нам, как ищут, хватаются друг за друга, расстаются и вновь сходятся мужчины и женщины разных наций и классов, послушные одному лишь мгновенному инстинкту и уже утратившие способность наслаждаться, хотя они и не признают над собой никакого иного закона, кроме того, который велит им вечно искать все более рафинированных ощущений. Чем ниже они опускаются, чем больше грязи пристает к ним, тем меньше они это сознают, а главное, тем трудней им поверить, что все относящееся к сфере чувственности имеет крайне малое значение.
Беспощадная, жестокая картина; Морану удалось изобразить ее со свойственным ему обаянием. Но его многочисленные подражатели, надо признаться, безумно скучны.
Дело в том, что историю аморфного общества невозможно описывать бесконечно, как это делали наши предшественники, отображая конфликты духа и плоти, долга и страсти.
Здесь противники романа получают — и мы признаем это — очко в свою пользу. Они могут мне сказать: «Вы сами сознаете, что современные романисты оказались в тупике и не видят из него выхода». Конечно, мы могли бы им возразить: «А приключенческий роман?» Так называемое возрождение приключенческого романа представляется нам, в сущности, чем-то вроде попытки проложить дорогу в другом направлении: поскольку писателям недостает драм человеческой совести, они отыгрываются на из ряда вон выходящих событиях и необычайных интригах, вгоняющих читателя в дрожь. Я вовсе не собираюсь здесь уничижать приключенческий роман. Но, на мой взгляд, он имеет право считаться произведением искусства только в том случае, если его герои — живые люди, как у Киплинга, Конрада, Стивенсона. Короче говоря, для приключенческого романа, для того, чтобы он мог существовать в полном смысле слова, важны не приключения, а человек — искатель приключений. Стендаль говорил, что его профессия — познание мотивов человеческих поступков; он гордился званием наблюдателя человеческого рода. Поэтому романист просто-напросто обязан быть психологом; сегодня он, как все мы, находится в противоборстве с человечеством, чудовищно оскудевшим душой; пытаясь же отыграться на внешней интриге, он не обогащает, а обедняет роман. Должен сказать, что от сочинителей приключенческих романов я жду гораздо меньше, чем от тех, кто вслед за Ален-Фурнье, автором восхитительного «Большого Мольна» *, и вместе с Жироду, Эдмоном Жалу *, Жаком Шеневьером * открывает жанру романа царство Фантазии и Мечты. Но проникнуть туда дано очень немногим писателям: земли эти предназначены для потомков Шекспира.
IV
Тем не менее мы, лишенные фантазии, не отчаиваемся и продолжаем поиски в разных направлениях; мы спрашиваем себя, не проложил ли новый путь кто-нибудь из ныне живущих романистов. Возвратясь с Востока, Поль Моран в статье, напечатанной в «Нувель литерер», выражает отвращение к нашей цивилизации, низменно плотской и жадной до наслаждений; он восхищается племенами, среди которых побывал: они гораздо ближе нас к абсолюту, и благодаря постоянным медитациям мысль о смерти стала для них привычной. В своей статье Моран призывает нас открыть глаза на издевательский и лживый характер западной цивилизации, удовлетворяющей наши вожделения, но игнорирующей более глубокие запросы. Мы видим здесь, как может расширить свои горизонты историк современного общества. Даже если он полностью лишен религиозного сознания, он все-таки изображает, хочет того или нет, то, что Паскаль называл ничтожностью человека без бога.
Никому это не удалось лучше, чем ныне живущему крупному писателю, верней, писательнице, совершенно, если я не заблуждаюсь, равнодушной к вопросам религии, — Колетт. Кто не читал ее «Шери» и «Конец Шери»? Невозможно вообразить себе более гнусное, более ничтожное, более грязное человеческое существо. Мальчик, воспитанный ушедшими на покой старыми куртизанками, его любовная связь с женщиной климактерического возраста, которая годится ему в матери, атмосфера сладострастия и низменного распутства, полная слепота и глухота ко всему, кроме плотских побуждений... и однако, эти великолепные книги не только не унижают и не грязнят, но когда закрываешь их, не остается ничего похожего на ощущение тошнотворности и скверны, от которого страдаешь при чтении подобных непристойных сочинений. Своими старыми куртизанками, бездушным и гнусным красавчиком-мальчишкой Колетт потрясает до глубины души и, чуть ли не с омерзением показывая недолговечное чудо юности, вынуждает нас осознать трагическую скудость жизни тех, кто видит весь ее смысл в любви, столь же преходящей и бренной, как цель и предмет этой любви — плоть. Книги эти заставляют вспомнить о клоаках больших городов, которые изливаются в реки и нечистоты из которых, влекомые речным течением, достигают моря. Язычница, воспевающая плоть, Колетт неотвратимо приводит нас к богу.
Все это означает, что современный романист не может больше исследовать нравственные, социальные или религиозные конфликты, которыми жили его предшественники, что он начинает избегать даже изучения любви, во всяком случае такой, как ее понимали когда-то (ибо любовь подобна древней игре с устарелыми и слишком сложными правилами, которых нынешние молодые люди не признают); и получается, что у романиста не остается никаких иных тем, кроме плоти. Другие области для него закрыты, и он со все возрастающей дерзостью осмеливается вторгаться в проклятые земли, куда еще совсем недавно никто не решался забредать. Я имею в виду книги Жида и Пруста, книги Джойса, книги Колетт, Морана и Лакретеля * и, упоминая их здесь, лью воду на свою мельницу. Вне всякого сомнения, то, что отваживаются делать некоторые современные романисты, обращая взор к тайникам чувства, крайне важно; это лучше всех понял и выразил Жак Маритен в нескольких строках, где проблема ставится со всей ясностью. Я процитирую страницу из его эссе о Жане Жаке Руссо, опубликованного в книге, называющейся «Три реформатора»: «Руссо целит в нас, но не в голову, а чуть ниже сердца. Он растравляет в наших душах шрамы врожденной греховности, вызывает силы анархии и томления, дремлющие в каждом из нас, чудовищах, подобных ему... Он научил наш взгляд наслаждаться созерцанием самих себя и причащаться тому, что он там видит, научил находить прелесть в тайных синяках самого интимного чувства, которые в менее порочные века с дрожью открывали одному лишь господнему взору. Новейшей литературе и философии, которые тоже поражены им, потребуется много труда, чтобы обрести ту искренность и чистоту, которые некогда знал разум, обращавшийся к бытию. Есть некая тайна сердец, недоступная даже ангелам и открытая только духовному знанию Христа. Сейчас Фрейд пытается проникнуть в нее с помощью отмычек психологии. Христос взглянул в глаза женщине, взятой в прелюбодеянии, и проник в ее душу до самого дна; лишь он один мог сделать это, ничего не оскверняя. Ныне же любой романист беспардонно читает в этих несчастных глазах и тащит своего читателя заглянуть туда вместе с ним».
V
Я не знаю ничего, что может сильнее, чем эти строки, смутить человека, наделенного опасным даром творить живых людей, проникать в тайны сердец. Лишь в одном пункте я расхожусь с Жаком Маритеном: мне представляется величайшей несправедливостью возлагать всю ответственность на одного-единственного человека. Нет, пусть Руссо один из отцов нового анализа чувства, пусть он одним из первых был поражен недугами, переданными нам по наследству, движение, заставляющее нас обнародовать эти тайны, открывать сокровенные синяки, порождено не только им; ни для кого нет сомнения, что, даже если бы не было Руссо, современных романистов все равно бы влекло, тянуло в те же запретные сферы; путешественники знают, как с каждым днем все неуклонней сужается на карте мира зона неведомых земель.
И все же, хотя вечные конфликты, которыми роман жил более столетия, утратили в значительной мере свою остроту, это вовсе не значит, что их не существует; вселенная Морана еще не вся вселенная; есть провинции, где старые плотины пока прочны. Французская провинциальная семья в 1927 году дала бы Бальзаку столько сюжетов, что он мог бы разрабатывать их всю жизнь. Драмы еще существуют, и моему читателю известно, что я отношусь к тем, для кого они — источник наименее слабой части их творчества, однако часто оказывается, что писателя они не интересуют, да и не могут заинтересовать именно потому, что уже был Бальзак и бессчетное множество маленьких Бальзаков. Думаю, что иные критики, разрезая страницы новой книги, порой вздыхают: «Еще один Бальзак!» Как же мы теперь далеки от утверждения Брюнетьера *: «Уже более полувека хорошим романом в первую очередь считается тот, что похож на бальзаковский». Мы же, напротив, попытались бы сказать так: новый роман привлекает наше внимание лишь в той мере, в какой он далек от бальзаковского типа. Представьте себе лес, который исполин Бальзак вырубил чуть ли не под корень, затем, пришли другие и срубили все, что не тронул он, а нам остается только продекламировать вместе с Верленом: