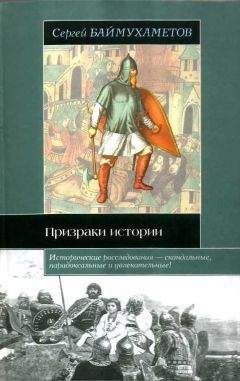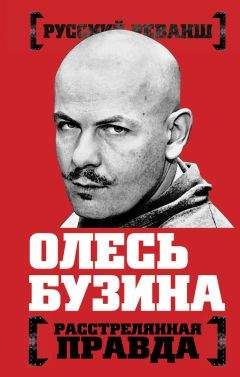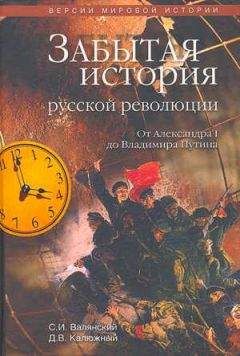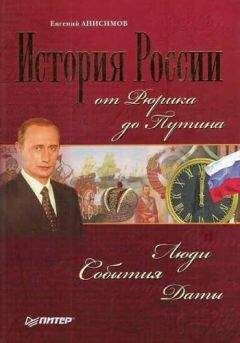Сергей Баймухаметов - Ложь и правда русской истории
Я уж не говорю о гэбэшниках, которым всюду мерещились враги народа. Тогда, после процесса Синявского и Даниэля в 1966 году, только начинался уже новый, послесталинский этап всеобщей истерики: кругом одни враги… И местным гэбэшникам, как мне представляется, тоже хотелось показаться: мол, и мы не дремлем, службу знаем. А как иначе объяснить то, что в начале семидесятых они взяли в Петропавловске группу молодых людей, в вину которым вменялись обнаруженные при обыске магнитофонные записи «Роллинг Стоунз» и — страшно сказать! — номер журнала «Плейбой»! До суда, правда, дело не довели. Наверно, сообразили, что обнаженная натура «Плейбоя» — не самая выигрышная иллюстрация в суде по обвинению в антисоветчине.
Впрочем, это сейчас смешно читать. А тогда ребятам было не до смеха. На меня и поныне веет жутью и от тогдашнего рвения чекистов, и, более всего, от главного — от истерической традиции, духовной и государственной.
Тогда же в Петропавловске шел процесс над иеговистами. И никто не задумывался: можно ли судить людей за веру? В качестве доказательства там приводились брошюры, изданные в Бруклине, Нью-Йорке. Тут уже всем было очевидно: если уж Бруклин — то все, надо к стенке ставить…
Вот такая обстановка была в Петропавловске со свободомыслием и диссидентством на тот момент, когда я напечатал стихотворение Иосифа Бродского и когда Зина Донец по телефону решительно потребовала от меня отдать им песню «Пилигримы», чтобы сделать ее гимном студенческого театра!..
Как мне поступить? В ловушке я оказался. Сказать правду не мог — это значило своими руками подвести под монастырь Римму Васильевну. А если промолчу, то когда-нибудь да и вскроется же, что петропавловские комсомольцы распевают гимн на слова диссидента Бродского! Пусть и по незнанию… И Зине Донец тогда, конечно, достанется крепко… И — ничего нельзя сказать, предупредить, потому что тайна двоих — уже не тайна.
В общем, пробормотал я, что песню услышал где-то в походе, а чья она — ведать не ведаю, и делайте с ней что хотите.
Вскоре я из Петропавловска уехал. Так и не знаю до сих пор, стала ли и была ли песня Иосифа Бродского гимном студенческого театра «Пилигрим» Петропавловского пединститута.
Уехал в Тарусу, знаменитый городок на Оке. И там, работая в местной газете «Октябрь», снова устроил историю. Как-то писал очерк о житье-бытье доярок-свинарок, о трудной, тяжкой их работе. И, как будто черт под руку толкнул, совершенно естественно, по ходу руки, вставил туда строчки из стихотворения «Над книгой Некрасова» (цитирую по памяти):
Столетье минуло и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет…
А ей бы хотелось иначе.
Носить драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят…
Мол, горько и стыдно должно быть нам, что за два века, считай, в судьбе деревенской бабы мало что изменилось. Только не назвал я автора стихотворения. А им был известный советский поэт, к тому времени закордонный диссидент Наум Коржавин. К тому же только что по всем «голосам» прочитавший отчаянное, вызвавшее бурный отклик со всех сторон стихотворение о народе, который «как дурак не ценил свободы и сквозь пули рвался в ярмо!»
Я пишу все так, как было. Не приукрашивая себя. О редакторе газеты, хорошем мужике Владимире Сергеевиче Петрове я не думал. Не потому, что я такая сволочь, а просто искренне считал, что он-то здесь ни при чем, а раз так, то «свои», «партийные» его не тронут. Не знал я по молодости их нравов, не знал, что в случае скандала там рады найти любого «стрелочника», лишь бы себя спасти. Так что каюсь: по молодости и глупости поставил под удар карьеру хорошего человека Владимира Сергеевича Петрова. Но все обошлось.
За себя же я совсем не боялся. В конце концов, я беспартийный, среди меня политинформацию не проводили и специально в известность не ставили, что советский поэт Коржавин выдворен за рубеж и цитировать его стихи в нашей прессе нельзя, и в конце концов, ничего уж такого страшного я не сделал… А то, что из редакции уволят, да еще с «волчьим паспортом», так что нигде больше на журналистскую работу не возьмут, из города выселят, а жить-то негде, хоть и страна большая, и вообще, могут жизнь испортить всерьез и надолго — об этом как-то не думалось.
Если меня еще раз назовут провинциальным идиотом — не обижусь. Степень идиотизма, действительно, была какая-то запредельная. Ведь мне тогда было уже двадцать пять лет. И опыт уже имел, и давно должен был усвоить, что люди бдят…
Да и обстановка в стране не располагала к легкомыслию. Семидесятые годы — время полного утверждения самой махровой и тоскливой партократии. Как раз в то время, когда я Коржавина тайно печатал, вся страна была в неком взвинченном напряжении, потому как готовилась встретить Двадцать пятый съезд КПСС. А перед его открытием на предприятиях и организациях людей вполне официально предупреждали, чтобы они с анекдотами-то языки попридержали, не то время и не ровен час…
Наконец, жил я тогда не где-нибудь, а в подмосковной Тарусе, знаменитом на весь свет городе-прибежище диссидентов, как раз за 101 -м километром от Москвы. Тогда всем «отщепенцам» на более близком расстоянии к Москве поселяться не разрешалось. Таруса с позапрошлого и прошлого веков связана с именами Поленова, Борисова-Мусатова, а затем Цветаевой, Паустовского. Уже во времена Паустовского город становился центром всесоюзного вольномыслия, а уж в семидесятые годы превратился, простите за невольную остроту, в официальный центр советского диссидентства.
Таруса была, наверно, единственным районным городом в Советском Союзе, имеющим собственный отдел КГБ. Обычно для районных маленьких городков достаточно было и одного уполномоченного, а здесь — отдел.
А раз город такой, там у любой кукушки ушки на макушке. В общем, вести себя здесь надо было тише воды и ниже травы.
Ан нет! Совсем наоборот. Все в Тарусе дышало тогда каким-то удивительным воздухом беспечного фрондерства! О публикации стихов Коржавина знали все. Не заметили лишь те, кому надлежало бдить. Ну, особыми знатоками литературы они никогда не были, а тут вполне и легко можно было принять стихи Коржавина за стихи Некрасова…
В пивной, узрев в тебе нового человека, сразу начинали рассказывать о «Толике Марченко, которого увезли отсюда и три недели назад судили в Калуге. Вот такой парень!». О том самом знаменитом и тогда, и впоследствии правозащитнике Анатолии Марченко, что погиб в голодовку в Чистопольской тюрьме уже на рассвете свободы и гласности, в 1986 году…
В библиотеке тебе почти открыто давали пятнадцать лет назад запрещенный и «изъятый» альманах «Тарусские страницы», созданный здесь же группой писателей во главе с Константином Паустовским. Вышел-то он вполне официально, а затем был объявлен идеологически вредным, и из-за него даже поплатился должностью секретарь Калужского обкома.
По дороге на работу тебя встречал кочегар Володя и, тыча черным пальцем, читал перевод статьи из «Морнинг стар»; газета хоть и коммунистическая, но зарубежная, с вольномыслием всяким, однако тарусским кочегарам, знающим английский язык, не запрещенная…
Здесь, в Тарусе, в те годы жил прозаик Алексей Шеметов. Он очень просил меня не проводить параллели между материалом его исторических повестей и современной действительностью. Но я, конечно, по молодому глупому фрондерству, проводил, и тем не менее беседы наши, с купюрами, печатались в районной и калужской прессе. Алексей Шеметов в своем роде — фигура историческая. Своей книгой «Вальдшнепы над тюрьмой» он открыл вольнодумскую серию «Пламенные революционеры» в Политиздате. Да, именно главное партийное издательство не по своей воле стало тогда рассадником вольнодумства. Для задуманной серии они позвали талантливых людей — Давыдова, Трифонова, Окуджаву… Книга Булата Окуджавы о Павле Пестеле так и называлась — «Глоток свободы». Разумеется, в журнале она называлась иначе — «Бедный Авросимов», потому как все панически боялись употреблять само слово «свобода». Только тогдашний безупречно высокопартийный и высокопоставленный «Политиздат» мог позволить себе выпустить книгу под названием «Глоток свободы». Что значило это слово, читатель узнает из самой что ни на есть житейской практики. Автор этих строк в молодости отличался буйным нравом, не раз попадал в кутузку. А поскольку был еще и язвой, то каждый раз говорил дежурному по участку: «А мы, между прочим, живем в свободной стране». И каждый раз среднестатистический дежурный вскидывался: «А! Такты еще и антисоветчик!» Вот какая была реакция в нашем Отечестве на слово «свобода» еще совсем недавно… И, конечно, все мы тогда цитировали первую фразу «Нетерпения» — романа Юрия Трифонова об Андрее Желябове: «К концу семидесятых годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна». А книга Шеметова «Вальдшнепы над тюрьмой» — это рассказ о первом русском марксисте Николае Федосееве, которого затравили и довели до самоубийства свои же братья-партийцы…