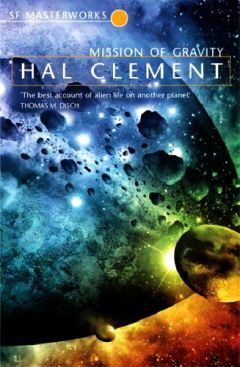Серей Палий - Фантастика 2008
С неженской силой она бросается на «инвалида» и вырываем у него пластинку. Тот от неожиданности выпускает, но вскоре завладевает ею вновь. Медсестра не согласна терпеть поражение…
Девочка-Весна приходит в себя после удара о стену и с ужасом наблюдает, как паралитик и всегда аккуратная медсестра возятся на пропахшем хлоркой полу. Ей страшно.
Конечно, пациент сильней.
Ему ничего не стоит отобрать пластинку вновь, посмотреть насмешливо, твердо: «Не влезай, дамочка. Убьет». Взгляд жесткий, опасный.
Мужчину бы остановил один только этот взгляд. Но не женщину на грани отчаяния. Она не даст одержать над собой власть еще и этому! В тот момент, когда странный пациент берется за ручку патефона, медсестра выхватывает из кармана шприц, срывает колпачок и делает укол. Так этому и надо, никакой он не больной, обычный лжец! Все мужики — притворщики, лгуны, сволочи!
Пластинка падает из руки пациента.
Визжащая женщина, бьет, бьет, бьет ее каблуком и чувствует: отпустило. Отпустило.
Мужчина, оседая, успевает нажать кнопку на своем странном браслете.
Через мгновение в палату влетают главврач и охрана. Хлопают двери, бывшего обитателя палаты уносят, накрыв простыней — он мертв. Не сопротивляющуюся, непрерывно хохочущую медсестру уводят еще до того.
Девочка-Весна, спрятавшаяся под кроватью, видит, как главврач собирает осколки пластинки. Выражение его глаз не передать. Боль. Ужас. Безысходность.
Неужели он такой меломан?
Наверное, просто пациента любил — как и она. А пластинка — как бы кусочек этого…
На следующее утро, выйдя на работу, девочка слышит, как из знакомой палаты доносится:
— Адьез, мадрисита!
Навеки мое сердце разбито…
Уф! Обошлось. Врачи все преувеличили!
Этот жив и все будет в порядке. Пластинка играет, а значит, он жив…
Девочка радостно отпирает железную дверь, врывается в комнату… На каталке у патефона сидит полноватый крепыш восточного вида. Бессмысленный тусклый взгляд, изо рта течет струйка слюны. На руке — странного вида браслет.
Другой человек. Другая пластинка. Та же — только мелодия. И струйка эта дурацкая… И браслет с тревожной кнопкой…
— Что ж это такое? — в сердцах говорит юная санитарка. — Выдают вам эти пластинки при поступлении, что ли?
Делает решительный шаг к патефону, в глазах новичка появляется осмысленное беспокойство.
— Не бойся, не трону я ее, — машет девочка рукой. Но пациент, похоже, и сам знает, что она — не тронет.
Оба-на! Вот так сюрприз. Подойдя ближе, санитарочка видит, что пластинка склеена. Та же, та же пластинка! Все то же… Только человек другой.
— Познакомьтесь, Олечка, это наш новый пациент, — говорит главврач, неслышно появившийся за спиной. — Не выключайте только пластику, ему так спокойнее. Она хорошо на сложных пациентов действует. Ну, вы знаете. Вы зайдите ко мне потом, кажется, нам пора поговорить.
— Знаю… знаю. Скажите, а как звали этого... того?
— Я и сам не знал. Не положено. — Главврач выходит из палаты.
— Чертовщина какая-то, — бормочет Олечка. — Дурдом.
Но ощущение, что все в порядке, все равно не покидает девушку. Сердце щемит и все равно все в порядке.
Как надо.
В это же времяСмотрительница крохотного лондонского музейчика, всю смену напролет вяжущая шарф очередному внуку, сдает пост коллеге — веселой старушке, ненавидящей вязание. Ненавидящей, но остервенело создающей одну уродливую вещицу за другой. А чем еще прикажете занять руки, когда глаза должны быть заняты одним — не терять из виду картину в зеленоватых тонах, скромно висящую в углу?
— Знаете, мне кажется, я уже видел вас с этой самой книгой месяц назад! Пишете по ней диплом? — обращается к симпатичной парижанке в очках не менее симпатичный юный парижанин. Учеба учебой, но так приятно встретить в читальном зале подобную симпатягу. И повод для разговора есть!
Шит! — бормочет про себя девушка. — Мерде. И ведь придется доложить об этом куратору. Как он был против того, что-бы на пост ставили меня. Говорил, буду вызывать слишком много внимания, что все равно рано или поздно придется меня менять… И ведь придется! Хотя какое-то время у меня есть: диплом — нормальный предлог. Только бы парень не полез смотреть, что это за книга…
В мадридском баре дымно.
— Каких только глупостей не пишут в газетах! — фыркает черноволосая девушка и объясняет подружке: — Мол, наша Земля — всего лишь искусственно созданный слепок другой Земли, существовавшей миллионы лет назад. А потом — погибшей. Типа земляне успели отправить нам артефакты, отвечающие за цикличность событий, и теперь мы точь-в-точь повторяем развитие той Земли… Те же этапы, те же люди рождаются, те же события с ними происходят. Один в один. Бред!
Мария Гомес Диас откладывает «Пайс», взятый у стопки, и закуривает. Мария не любит прессы: новости лучше передавать из уст в уста. Вот она, например, знает историю своей семьи аж с 1808 года — в какой газете такое прочитаешь? Мария на редкость красива… Черные глаза, тонкие щиколотки, нежная кожа легко пахнет оливками.
Над Мадридом ночь.
— Адьез, мадрисита!
Навеки мое сердце разбито… — мурлыкает девушка себе поднос. Шестнадцатилетняя Мария сама не знает, откуда взяла эту старую песенку.
Так, привязалась.
© Н. Федина, 2007
Лариса Бортникова
АНАРХИСТЫ
Смотритель тоннелей столичного метрополитена Сидоров мялся на переходе в томительном ожидании зелёного карапуза на табло. Карапуз медлил, до начала утренней смены оставалось четверть часа, а по проезжей части сновали туда-сюда цветные пассажиропотоки. Сидоров нервничал, переживал, и вдруг… Вдруг его осенило. «А чего это я? А плевать я хотел на приличия и мораль! Пле-вать! Вот так!» Сидоров плюнул, попав точно между прутьями канализационной решётки, скинул пальто и стянул свитер вместе с неглаженой рубашкой (жена ленилась — зимой всё одно под свитером незаметно). А потом Сидоров взлетел.
Вахтёрша шарахнулась в сторону и перекрестилась, увидев, как Сидоров минует турникет, как красивым штопором ввинчивается в наклонную шахту, чтобы обогнуть фонари, натыканные вдоль эскалатора, и раствориться в полутьме.
— Заболел, наверное. Или пьяный? Точно пьяный. Алкаш, — верещала вахтёрша в переговорное устройство, делясь происшедшим с капитаном Соловейко — дежурным ментом. — Вот бесстыжая харя! Просвистел мимо, даже пропуском не моргнул. Вы уж его прижучьте как следует. Оштрафуйте гада.
— Не боись, Марьванна. Примем меры.
Капитану ничуть не улыбалось под конец дежурства разыскивать нахулиганившего техника. Однако долг есть долг, и, нацепив фуражку с высокой тульей, Соловейко поспешил к эскалатору.
— Вруби лесенку на полную, а то не угонюсь за придурком, — проорал Соловейко вахтерше.
И правильно сделал. Едва начищенные кирзачи капитана ступили на гранитные плиты станции, едва затянутая в белую лайку ладонь коснулась мрамора колонны, дверца, ведущая в подсобку, распахнулась, и оттуда выплыл Сидоров. На лице его, розовом и придурковатом, как у поддатой невесты, блуждало выражение абсолютного счастья. В руках болтался чемоданчик с инструментом, а из бледной спины, испещрённой клинописью баночно-горчичной терапии, топорщились кожистые крылья. Крылья были не слишком ухоженные, размером невелики, но пульсирующие, узловатые жилы указывали на немалую мощь, а также на то, что Сидоров частенько пользовался летательным рудиментом. Чаще, чем положено в цивилизованном обществе.
— Пьяный? Дыхни. — Капитан Соловейко брезгливо оглядел нарушителя порядка. — И это… Приземлись немедленно. Смотреть на тебя тошно. Взрослый мужик. Семейный… Давай-ка, братец, домой. Отоспишься, придёшь в норму, а завтра на работу.
— А хрена тебе! — Сидоров засучил ногами в кедах и, приняв горизонтальное положение, взял курс на тоннель. — Я свободный человек! Даже не подумаю подчиниться… Вот! Летать я над вами всеми хотел!
С этим Сидоров взмыл под мозаичные своды, изобразил петлю, едва не выронив чемоданчик на капитанскую фуражку, и на бреющем вошёл в трубу. Стоптанные резиновые подошвы мелькнули в чреве тоннеля мотыльком-мутантом. Соловейко чертыхнулся и полез за рацией. Надо было срочно вызывать группу захвата.
— Может, наркота… Или с ума сошёл. Всю жизнь по катакомбам ползать — не всякая психика выдержит. А у нас через полчаса поезда на линию выходят. Высылайте боевиков.
— Соловейко, слушай. Такое дело. Пока ребята прибудут — минут десять пройдёт. Ты того-с… Как-нибудь сам. — Рация замялась, всхлипнула и осторожно добавила: — Приказать не имею права, дело сугубо добровольное.
![Гарри Гаррисон - Билл — герой Галактики на планете Бутылочных мозгов [на планете закупоренных мозгов]](/uploads/posts/books/144947/144947.jpg)