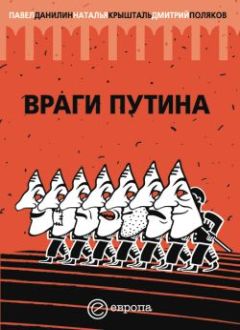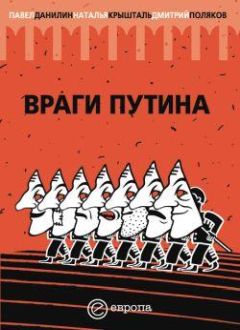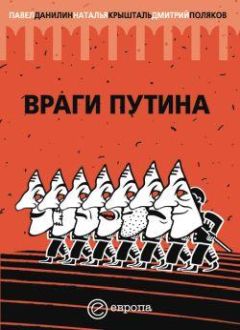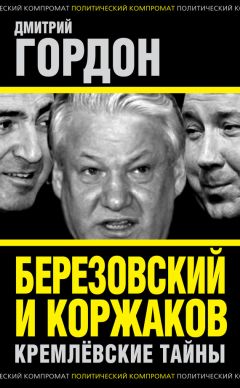Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки
Решением этой задачи так или иначе занимается любой серьезный исторический писатель; поиски этого решения – подоснова любого серьезного произведения на историческую тему. Но делается это с разной степенью подготовленности и осознанности. С. Львов подходит к задаче с профессиональной целеустремленностью, во всеоружии знания.
Вопрос о положении героя в историческом пространстве, решение которого требует исключительной точности в отборе фактов и корректности их осмысления, снова приводит нас к одной из ключевых проблем – проблеме достоверности.
Возвращаясь к уже сказанному в начале статьи, стоит повторить здесь, что достоверность исторической прозы отнюдь не равна буквальному воспроизведению материала. И тут снова необходимо вспомнить о принципиальной многовариантности исторического процесса. Известный современный медиевист А. Я. Гуревич писал:
«Вопрос об альтернативных вариантах исторического развития, не осуществившихся в действительности, но возможных в определенных реальных условиях, важен для уяснения характера исторических закономерностей. В этом смысле постановка вопроса о принципиальной осуществимости в ходе исторического процесса иных вариантов, не тех, которые имели место, представляется закономерной»[128].
В принципиальной возможности, более того, равноправности нескольких вариантов развития содержится оправдание такой странной, на первый взгляд, вещи, как правомочность нескольких художественных моделей одной и той же исторической ситуации, одной судьбы, одного события, ибо каждое событие в действительности реализуется отнюдь не однозначно. Разумеется, Милорадовича убил Каховский, и в любом случае нет надобности утверждать, что это был Кюхельбекер. Но восстание 14 декабря, как сложный комплекс конкретных действий конкретных людей, давало возможность последующим событиям осуществиться в разных вариантах. Возможности, предоставленные этим комплексом непосредственному будущему, безусловно неоднозначны.
Формы борьбы писателей с бытовым обликом событий, претендующим на плоскую однозначность, разнообразны.
Виктор Соснора в повести «Две маски»[129] – история заговора Мировича – прибегает к открытому приему: он откровенно дает в двух частях повести две версии происшедшего. И дело не только в разоблачении противоречий и умолчании официальной версии, но и в анализе противоречивости характеров персонажей и их действий, наличия в них самих альтернативных возможностей. Мирович предстает одновременно и дерзким авантюристом, и жертвой высочайшей провокации. Несомненно, было и то, и другое, но, по мнению – весьма убедительному – В. Сосноры, реализовался второй путь.
Прием В. Сосноры сильный и плодотворный, но не единственный.
Если проследить движение тенденций в этом плане с начала рассматриваемого десятилетия к настоящему моменту, то мы увидим интенсивное развитие, условно говоря, «комплекса свидетеля» у многих писателей.
Писатель стремится поставить между собой и читателем третье лицо – свидетеля, условного мемуариста, наблюдателя. Но таким образом это третье лицо стоит и между писателем и событием. И это дает возможность писателю строить модель события совершенно достоверную по фактуре (рассказчик видит происходящее своими глазами) и в то же время, пользуясь правом свидетеля на субъективные особенности восприятия, выбирать генеральный, по его мнению, вариант из всех, кроющихся в реальной ситуации.
Законченная в 1969 году «Глухая пора листопада» Юрия Давыдова – результат прямого взгляда автора на материал. Высочайшая степень достоверности здесь достигается горькой и трезвой логикой движения ситуации, логикой, которой ничего не может противопоставить самый строптивый читатель и которая заставляет верить психологическим характеристикам, ибо ничто иное не могло привести к известному финалу. С 1972 года – момента написания «Судьбы Усольцева» – картина меняется. История ашиновской экспедиции рассказана вымышленным автором записок. Роман «Завещаю вам, братья…» (1975 год) – «записки» двух персонажей. «На скаковом поле, около бойни…» (1978 год) – нет явного рассказа от первого лица, но прием прочитывается совершенно отчетливо – событие глазами многих свидетелей.
Прием родился, естественно, не сегодня. Таким же образом – от первого лица – построен известный роман Ольги Форш «Одеты камнем». Но там это именно литературный прием. Не более того. Мемуарная форма Юрия Давыдова восходит к «Капитанской дочке». То есть речь идет не о литературном приеме, а о способе выяснения исторической истины, существа эпохи.
«Среднее сознание» Гринева понадобилось Пушкину потому, что точно воссозданное восприятие времени индивидуальным сознанием – со всеми его субъективными искажениями – более способствует определению истины, чем добросовестно выстроенные в ряд факты. Сформированное фактурой эпохи сознание – идеальный свидетель для исторического романиста. Дело не только и не столько в том, какие факты запечатлевает это сознание, но в том, как оно определяет свое место в кругу этих фактов, и сам характер их восприятия. Главнейший показатель направления процесса – как эпоха выстраивает индивидуальные судьбы.
Восприятие честным сознанием Усольцева – вымышленного персонажа – реальных событий в «Новой Москве» дает автору возможность показать их человеческую сущность, то есть тот аспект, который прежде всего отсекается создателями утопий.
Смысл введения третьего лица – открытая психологичность, явность тех мотивов, по которым совершается отбор фактов, выбор варианта. Наличие лишней ступени между автором и материалом на самом деле вплотную приближает к материалу и писателя, и читателя.
Интересный во многих отношениях роман Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов» построен как записки свидетеля, сочетающиеся с дневниками и письмами действующих лиц. В предшествующих «Приключениях Шилова» прием намечен, здесь же развит и усложнен до предела.
Повести Яана Кросса «Имматрикуляция Михельсона» (монологи трех персонажей) и «Четыре монолога по поводу святого Георгия» (событие глазами четырех персонажей) дают нам ярчайший пример тенденции.
Повесть Самуила Лурье «Литератор Писарев» построена в этом отношении очень тонко – происходит непрерывное двоение взгляда: автор то сливается со своим героем, и мы видим вещи и явления глазами Писарева, то отступает – на шаг, не более, – и смотрит из-за плеча героя. С. Лурье как бы пишет мемуары о хорошо знакомом человеке, которого он по воле судьбы пережил на сто с лишним лет.
С ориентацией на «мемуарность», субъективность взгляда – изнутри произведения – связано и появление в современной прозе фигуры летописца.
В романе Мориса Симашко «Маздак» нет рассказчика. Но сквозь все повествование проходит фигура Авраама, который пишет историю царствования Кавада и тем самым летопись великого мятежа, разбуженного Маздаком. Его глазами, глазами постороннего, ибо Авраам – грек, видим мы происходящее в стране. И глазами автора книги – то, что происходит с самим Авраамом. Двойной взгляд, как всегда в таких случаях, создает эффект объемности изображения, но в данном случае не это главное. Главное, опять-таки, идея свидетеля в истории. Идея неизбежной гласности.
Значение того факта, что Пушкин ввел в «Бориса Годунова» фигуру Пимена, отнюдь не достаточно оценено. Пимен никак не связан с прямым действием. Те сведения, которые он сообщает Григорию, могли сообщить другие персонажи. Пушкину было чрезвычайно важно именно то, что Пимен – летописец, свидетель. Между Гриневым и Пименом огромная разница. Гринев – равный среди равных. Пимен – свидетель-судия.
Мемуары Гринева, относящиеся к весьма распространенному в ту эпоху типу воспоминаний для назидания детям и внукам, о чем говорит и нравоучительный эпиграф, поставленный над повестью издателем, есть произведение частного человека.
Летописец – фигура общеисторического характера. Гриневы пишут личную хронику. Пимены – историю страны.
Историческая проза – по существу своему – есть сочетание того и другого.
То, что летописец – праотец историка и прозаика – становится сам героем исторической прозы, – симптоматично. Исследуя мотивы, движущие летописцем, метод его работы, исторический писатель исследует свое дело. Происходит еще один парадоксальный поворот – герой смотрит на автора.
Яан Кросс наверняка обратил внимание на личность Балтазара Руссова именно потому, что тот был – в XVI веке – его, Кросса, коллегой. Балтазар Руссов, пастор из Таллина, написал «Большую Ливонскую хронику». Вся предшествующая жизнь Балтазара – ученье, скитанья, участие в крестьянском мятеже – только подготовка к главному жизненному деянию: созданию хроники. И в третьей части романа[130] его существование в бурное и страшное время подчинено выполнению этой тяжкой задачи.