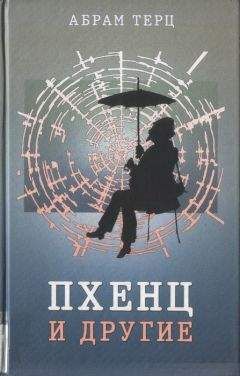Абрам Вулис - Литературные зеркала
И опять прежняя картина, уже нам знакомая по исповедальным строкам самого Монтеня: душа раскрывается через вещи, внутреннее — через внешнее. Таким образом суждения о других оказываются также оценкой самого себя, а суждения о себе — критерием для других, более того, всеобщим критерием. Из зеркала авторской души «Опыты» вырастают в общечеловеческое зеркало этакий насмешливый катехизис этических афоризмов и «случаев».
Известно, что жанр «опытов» исчисляет свою генеалогию чуть ли не от Адама: сборники цитат, назиданий, поучительных историй, восходящие к античности, — вот их праобраз.
В средние века эта традиция продолжала развиваться, а позже сформировала специфическую литературу морально-наставительного характера, которую, пожалуй, вполне уместно называть «зерцалами» — хотя бы потому, что многие ее образцы именно так и назывались. «Юности честное зерцало» наиболее известный у нас вариант этого жанра.
«Зерцалам» присуща четко выраженная проповедническая ориентация. Энциклопедии «текущей» этики, формулы прикладной нравственности, разбитые по тематическим Циклам, — таков главный жанровый принцип и признак всей этой литературы. Думается, что и самое обозначение жанра в свете сказанного выглядит намеком достаточно прозрачным. Книга словно бы говорит: «Поглядись в меня — и ты увидишь себя: таким, каким тебе быть надлежит!»
Ни в каком другом литературном явлении вера в зеркало, что оно может устанавливать среди людей (и образов) догмат этической симметрии, не проявилась так откровенно и прямо, до наивности, как в «зерцалах». Удивительно ли, что этой формой — правда, в утонченнейшей, искуснейшей, изысканнейшей ее модификации — воспользовался великий мыслитель, сумевший как раз в этом своем качестве — мыслителя — стать великим художником мастером, отразившим движение мысли.
Поначалу Монтень в ряду эталонных рыцарей мимесиса представляется в книге Ауэрбаха некой несообразностью — вроде духовидца на сборище живописцев. Но художественное подражание не желает и не может считаться с ограничительными запретами, простирая свою активность, как щупальца, все дальше и дальше, и человеческая психика для него отныне не закрытая запредельность, а всего лишь очередной этап преодолений. Духовидение становится жанром живописи.
Наш мозг не умеет жить на холостом ходу — это исключительно целесообразный инструмент, генетическая программа коего предусматривает неостановимый поиск — ив частности поиск подобий (вспомним, что всякое обобщение являет собой констатацию неких сходств и различий; с такой точки зрения истина — мимесис высшего порядка, теоретический, абстрактный мимесис).
Путешествие мимесиса через сознание и подсознание завершается его возвратом в объективный мир. Анализ сознания оборачивается в литературе анализом того, что этим сознанием отражено, — и опять мимесис усваивает образ зеркала, правда, зеркала, воспринимаемого теперь со стороны как целая система. Иллюстрацию к этой мысли снова охотно предоставляет Ауэрбах: «В эпоху первой мировой войны, в предшествовавшие ей годы и в последовавшее за ней время, — пишет он, — в Европе, переполненной до отказа самыми разными, не приведенными в равновесие жизненными формами и идейными комплексами, в Европе, неустойчивой и чреватой катастрофами, некоторые писатели, обладающие интуицией и умением хорошо видеть вещи, открыли метод, позволявший разлагать действительность на многообразные и многозначные отражения глубин сознания…
Однако этот метод — не только симптом хаоса и беспомощности, не только зеркало, отражающее гибель нашего мира… Затрагивается стихийная общность жизни всех людей; и именно произвольно выбранный момент в какой-то мере независим от всех тех спорных и шатких порядков, за которые борются и из-за которых приходят в отчаяние люди…» (с. 542, 543).
И еще о системе зеркал. В «Улиссе» Джеймса Джойса «наиболее радикальным образом применена техника многократного отражения событий в сознании, техника расслоения времени». Чуть дальше: «Если отражение в сознании и расслоении времени лишь немногими писателями применялись с той же последовательностью, что Прустом или Джойсом, то следы и влияние таких приемов можно найти почти повсюду…» (с. 536).
Не столько сама мысль, сколько словоупотребление симптоматично: чем ближе к современности, тем труднее ученому обходиться в своей трактовке мимесиса без «отражения». Впрочем, и мысль знаменательна: анализ сознания приобретает в новейшее время огромную миметическую функцию; художник не просто входит в зеркало, но, проделав эту фантастическую операцию, забирается герою в душу, чтобы сквозь нее, как через перископ, выйти на новые горизонты познания, войти в последующие зеркала, которые в свой черед откроют ему Атлантиду иных душ и иных реалий, а скорее всего новые нюансы все той же знакомой души, все той же примелькавшейся действительности, но теперь она станет воистину Атлантидой: такова захватывающая экзотика неузнаваемого в узнаваемом, узнаваемого в неузнаваемом.
Отражение обнаруживает в себе неисчерпаемую систему отражений — но, с другой стороны, всякая система отражений остается всего-навсего отражением. И ни к чему здесь это нарочитое «всего-навсего». «Всего-навсего» в данном случае совпадает с границами искусства — а искусство безгранично.
Шествовать дорогами мимесиса следом за Ауэрбахом поучительно, потому что вряд ли еще кто-нибудь проделал столь кропотливую инвентаризацию зеркал мировой литературы (разумеется, метафорическую инвентаризацию и, разумеется, метафорических зеркал, что нельзя не оговорить специально).
Сосиска или четвероногое?
Эволюцию мимесиса в схематичной форме повторяет или разыгрывает ребенок в своем творчестве — видимо, согласно знаменитому постулату биологии: онтогенез повторяет филогенез (развитие индивида повторяет развитие вида).
Передо мной детский рисунок (не столь уж важно: чей-то сегодняшний или мой собственный, мемуарный, тогдашний).
Домик, напоминающий спичечную коробку: кривая линия, обозначающая прямую, под углом к ней другая кривая линия, еще линия, и еще. Углы, под которыми эти четыре линии пересекаются, теоретически равны — каждый девяноста градусам, но исчислению в градусах практически не поддаются, так как чужды самому духу геометрии.
Рядом с домиком, возвышаясь над ним, — нечто вроде сосиски, перетянутой посередине. Сосиску поддерживают скрещенные в виде буквы «Л» палочки. Это собака, а может быть, лошадь — во всяком случае, живое существо, и притом четвероногое: голова и туловище — две половины сосиски, а узенькая перемычка между ними — шея.
Каковы признаки того, что домик — это домик, а сосиска — четвероногое? На домик, то есть на импровизированный квадрат, посажен треугольник, передающий идею крыши, а на треугольник — нашлепка с закорючкой соответственно: труба и вьющийся над нею дымок. Кроме того, внутри квадрата есть квадратики с крестиками — окна.
У четвероногого на малой сосисочной части тоже наличествуют нашлепки (правда, без закорючки) — это уши. А одухотворяющим элементом являются на сей раз кругляшки глаз.
Главная фигура рисунка — девочка, изображенная по известному рецепту: «точка, точка, запятая, минус — рожица кривая; ручки, ножки, огуречик — вот и вышел человечек». Что это девочка, можно узнать по хвостикам-косичкам, притороченным к голове. И еще по коническому пьедесталу между туловищем и ножками — юбке.
Девочка торчит среди идиллического пейзажа, как Эйфелева башня среди Парижа. Она больше домика, больше лошади, больше дерева — типичные диспропорции детского восприятия, вполне согласующиеся с другими алогизмами рисунка, которые мы придирчиво отмечали по ходу рассказа.
Эту картинку вроде бы даже неприлично именовать картиной. А между тем в ней присутствуют все компоненты картины, то есть зрелого искусства: внешний объект, выступающий как репрезентативная часть реальной действительности; попытка запечатлеть этот объект адекватными средствами, «отразить» его, получить его проекцию в плоскости человеческого восприятия; наконец, авторская субъективность, излагающая жизнь «своими словами».
Спросите ребенка: «Что ты тут натворил своим карандашом?» И он, не улавливая даже двусмысленной торжественности вашего «натворил», видя в этом глаголе разве что обличительный синоним шалости или проступка, тем не менее с гордым апломбом истинного художника, принимающего каждую свою акцию за творчество, каждый свой опус — за творение, каждое свое «делать» за «творить», ответит вам: «Я нарисовал Таню возле дома — а это Танина собачка…» Любая наша попытка оспорить сходство рисунка с окружающим миром будет нещадно пресечена. Потому что наипервейшая функция искусства, с точки зрения ребенка, «нарисовать так, чтоб было похоже»: воссоздание этого мира, фабрикация подобий, короче говоря, мимесис.