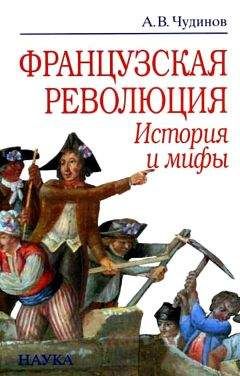Александр Гриценко - Антропология революции
Композиторское творчество весьма активно отвечает на складывающуюся моду. Уже в ноябре 1918 года в одном из рабочих клубов Петрограда под фортепианный аккомпанемент автора[620] показан балет Б. Асафьева «Карманьола». Годом позже появляется фантазия Г. Конюса для хора и симфонического оркестра на тему «Карманьолы». В 1924 году под названием «Революционный карнавал» изданы «Фантастические вариации» для фортепиано на тему «Карманьолы» К. Корчмарева. В 1929-м в Одессе ставится балет композитора В. Фемилиди «Карманьола», который в 1932 году увидели в новых постановках москвичи[621] и свердловчане, а в следующем году — бакинцы. В том же, 1933 году «Карманьола» вновь использована — уже в контексте других исторических музыкальных цитат — в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа», который и венчает этот список.
Однако совсем иными художественными и идейными мотивами было продиктовано обращение к «Карманьоле» (ставшей, таким образом, символом сразу двух революций) и «Ça Ira» Мясковским в его Шестой симфонии. Смысл этого цитирования раскрывается в недоуменном комментарии, опубликованном в 1953 году:
…Интонационный строй Шестой симфонии… в очень большой мере ощущается как русский. Тем более противоречивой оказывается тематическая основа всей симфонии в целом. Привлечение тем французских революционных песен «Карманьолы» и «Ça ira», наряду со средневековой секвенцией «Dies irae» и русским духовным стихом «О расставании души с телом» (народный напев), сейчас для нас попросту мало понятно. Но для художника склада Мясковского и в то время это было вполне естественно.
В сознании Мясковского ни одна из русских мелодий еще не обрела явного значения революционной темы: «Интернационал» не мог служить образцом русской мелодии. Использование «Карманьолы» и «Ça ira» означает, что Мясковский воспринимал революцию несколько абстрактно, как стихийное движение масс вообще, не сознавая до конца смысла социалистической революции. Но тут нельзя забывать, что в первые годы после Октября эти песни входили в наш быт, звучали на демонстрациях, издавались в обработках[622].
Как явствует из исторического контекста, две песни Французской революции недвусмысленно были интерпретированы автором симфонии именно в качестве символа смертоносной революционной стихии в сопряжении с другими мотивами, отражающими апокалиптический ужас эпохи (например, «Dies irae» — «День гнева», часть традиционного католического Реквиема, эвфемистически названная в книге сталинского времени «средневековой секвенцией»), — среди этих мотивов снова возникают интонации Юродивого. Возможно, музыкально-революционная лексика 1924 года в ее колебаниях между «Интернационалом», «Русской марсельезой» и «Карманьолой» в самом деле не могла подсказать композитору специфически русского символа революции, но еще вероятнее, что цитированная им «музыка революции» как раз и противостояла «русскому стилю» симфонии, внедряясь в него как чужеродное тело, несущее с собой гибель.
Если даже сегодня, на большой исторической дистанции, эти намерения автора кажутся выраженными вполне откровенно, то на фоне современности его программность должна была обретать почти плакатное звучание. Представление о том, как в буднях революционной улицы воспринимались современниками Мясковского цитированные им мотивы, может дать хотя бы пример «Нашей Карманьолы» — песни, которая была в начале 1920-х годов создана путем наложения на оригинальный напев нового русского текста Владимира Киршона: «Она имела весьма зажигательный припев, представлявший собой кальку песни времен французской революции: „Эй, живей, живей, живей / На фонари буржуев вздернем. / Эй, живей, живей, живей. / Хватило б только фонарей“ (в действительности в песне „Ça Ira“ „на фонарь“ предлагалось отправить не буржуа, а аристократов: „Ah! ça ira, ça ira, ça ira. / Les aristocrates à la lanterne!“ — Примеч. ред.). Толпы молодежи, возвращавшиеся вечерами с комсомольских собраний, с удовольствием распевали эту песню, явно пугая обывателя»[623].
(Более близкая в хронологическом отношении музыка Парижской коммуны закономерно оказывалась ближе и с эстетической точки зрения, но между вкусом вождей и масс здесь возникали расхождения, описанные историком Ричардом Стайтсом: «Ленин предпочитал „Интернационал“, но „Рабочая марсельеза“ была популярнее»[624].)
Так или иначе, все попытки получить какую-либо ощутимую практическую пользу от извлеченной из архивов прикладной — песенной, маршевой и т. п. — музыки Французской революции оказались безуспешными. Характерные для конца XVIII века принципы эстетического монументализма[625] также оказываются в раннесоветскую эпоху все менее и менее действенными. Если дня празднеств первых лет революции они еще могли сыграть роль образца, то к 1930-м годам исчерпанность их художественного потенциала становится все более ощутимой, а упоминания о них — все более редкими.
6Альтернативой этим неудачным попыткам стал авангардный по своей сути, хотя и до сих пор, как правило, противопоставляемый так называемому «композиторскому авангарду 1920-х годов» проект РАПМа. Члены объединения Российской ассоциации пролетарской музыки попытались сконструировать «музыку революции» фактически на пустом месте, «собрав» ее из ряда наиболее пригодных и при этом «идейно выдержанных» элементов музыкального языка эпохи. Жанровую основу составили песни в ритме марша, обильно оснащенные пунктирными ритмами и фанфарными интонациями. Поразительным результатом пропаганды творчества этих авторов стали «разоблачения», прозвучавшие из уст той самой аудитории, к которой и обращались рапмовцы: именно рабочая аудитория обнаружила сходство мотивов ряда песен с церковной музыкой, на которой были воспитаны и сами слушатели, и «революционные композиторы». Вот одно из таких выступлений:
Мы, товарищи, учимся по новым методам, поем новые песни и все же у нас, мыслящих товарищей, создался некоторый оптимизм в этом отношении. Я беру песню композитора Чемберджи «Ну, и долой». У нас в кружке встает один парень из старых певцов, — он пел когда-то в церкви, — и вспоминает какую-то мелодию со славянскими словами, правда, ритм другой, но точно такая же мелодия. Парень пропел славянскими словами, которые он не мог сразу выдумать. Дирижер говорит: правда, песня действительно похожа. Что же это такое, где наша новая музыка? Мы немножко, товарищи, возмущаемся. Я бы хотел услышать от товарища докладчика определенные указания, в чем же новизна новой музыки, есть ли разница между новой и старой песней, в чем то новое, чем мы боремся против старого[626].
Попытка «высосать новую культуру из пальца», как колоритно сформулировал творческую программу объединения один из его активных членов Д. Васильев-Буглай (имевший, кстати, за плечами карьеру церковного регента), провалилась. Однако это не было неудачей одного конкретного творческого объединения: практически весь «революционный» песенный репертуар на поверку оказывается сформированным на основе апроприации. Список «присвоенного» обширен и включает в себя главные «хиты» революционной эпохи — не только «Интернационал», «Марсельезу», «Варшавянку», но и «По долинам и по взгорьям…» (на мотив марша дроздовцев «Из Румынии походом…»), «Яблочко» (на мотив украинско-молдавского танца), «Наш паровоз, вперед лети…» (на мотив песни дроздовцев «Чей славный форд летит вперед…»), «Марш Буденного» (на мотив русской народной свадебной песни), «Коммунистов семья» (на мотив «Хуторка»), «Смело мы в бой пойдем…» (на мотив романса «Белой акации гроздья душистые»), «Мы — кузнецы» (на мотив шансонетки «Я — шансонетка, поберегись…»)… Историческую специфику этого процесса, активизировавшегося в период революции и Гражданской войны при участии всех враждующих сторон, хорошо поясняет комментарий Елены Михайлик:
Во время бесконечных стычек и боев из рук в руки переходило все. Воюющие стороны использовали одни и те же винтовки, носили одни и те же шинели, брали боеприпасы со складов противника и пополняли недостаток в людях за счет пленных и перебежчиков..<…> С песнями комбатанты поступали так же, как и со всем остальным, — снимали «знаки различия противника» и пускали в дело — присваивая ритмико-синтактическую структуру и сдвигая лексический ряд ровно настолько, чтобы сменить идейный вектор на противоположный. <…> «Трофейное» происхождение текста в этих случаях не скрывается, а, скорее, подчеркивается, поскольку в гражданской войне территория культуры является предметом спора не в меньшей мере, чем территория географическая. (Нам представляется, что подобное переприсвоение носило отчасти магический характер.)[627]