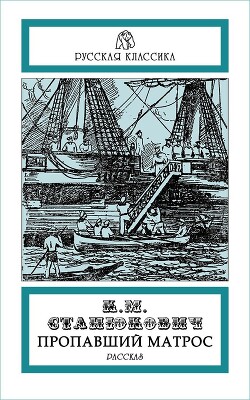Поездка в Москву. Новейший Хлестаков - Станюкович Константин Михайлович "Л.Нельмин, М. Костин"
— Как же вы отличаете подозрительных лиц?..
— Сейчас видно, коли у человека на уме недоброе… Он и вид такой имеет! — простодушно отвечал московский страж. — Ну, опять, одежа…
На той стороне реки, у скверного трактира, какой-то мальчик взялся меня проводить наверх… По изрытому рытвинами подъему мы взобрались на гору. Я оглянулся и не раскаялся, что совершил длинное и утомительное путешествие по жаре. Вид на Москву действительно был превосходный. Вся она была как на ладони, блистая своими церквами, утопая в зелени, окаймленная, как в рамке, зеленеющими полями. Я долго не мог оторвать глаз от этой красивой панорамы громадного города, сверкающего на солнце бесчисленными куполами, между которыми особенно выделялся ярко-раззолоченный особенным способом гальванопластики купол храма Спасителя.
Посмотрев с того самого места, где, по рассказу подошедшего к нам десятника с бляхой, стоял Наполеон, я скоро, без особенных затруднений, нашел того господина, которого искал, в одной из изб деревни. От него я узнал, что мой приятель, несколько дней тому назад, уехал со всей семьей на дачу, верст за сто от Москвы.
Мой случайный знакомый, с истинным радушием настоящего москвича, угостил меня завтраком и потом повел показывать, виды с различных пунктов Воробьевых гор. Виды, в самом деле, были один другого лучше, и не даром москвичи ездят сюда по праздникам насладиться прекрасным воздухом после духоты и вони города.
— Очень здесь хорошо! — восхищался я, кажется, с самого того же места, откуда Наполеон, окруженный блестящим штабом своих генералов, обозревал эту самую Москву, которая так дорого обошлась ему впоследствии. — Да и жить здесь, я думаю, недурно, не то, что на петербургских дачах? Привольно, спокойно, как в настоящей деревне… Лес, волнующиеся поля, река…
— Однако, вы, кажется, совсем представляете себе идиллию? — заметил мой собеседник.
— А что? Разве не идиллия… Посмотрите…
— Оно, конечно, недурно, но прежде, года два тому назад, лучше было… Более на деревенскую идиллию походило… Первобытность кое-какая еще оставалась.
— А теперь?
— Мало… Да и сельские власти стали очень внимательны.
— Неужели цивилизация и на Воробьевы горы поднялась, что ли?
— То-то… Очень стали интересоваться. Иной раз и в избу заглянут, когда вас нет дома, — взглянуть: все ли в порядке! — усмехнулся мой собеседник… Оно, видите ли, отчасти идиллия и нарушена!
Я вспомнил встречу с «пионером цивилизации» у перевоза и понял, что мои слова восторга могли показаться несколько странными человеку, имеющему от роду двадцать пять лет и носящему звание студента.
Но где ж искать теперь настоящей деревенской идиллии? Где «лежать на траве», чтобы любоваться высоким, небесным сводом, слушать шепот старого леса и хоть на некоторое время забыться, отдохнуть от этой ужасной «злобы дня»? Оказывается, нет от нее нигде спасения. Она и на Воробьевых горах, также как и в вагоне столичного поезда, она и в глуши самого дальнего захолустья, пожалуй еще, в более уродливой форме (если верить наблюдателям и кое-каким газетным корреспонденциям), она, эта «злоба дня», всюду, как тень, следует за человеком по городам, городкам и весям обширной русской Империи и, с раздражающей назойливостью, лезет вам в глаза подозрительным взглядом, умышленной недомолвкой, оскорбительной фамильярностью, а подчас и грубой, откровенно-наглой экскурсией в вашу душу какого-нибудь деревенского «политика» или урядника, на которого даже и сердиться нельзя за его невежественное усердие, не предписанное, надо думать, никакими инструкциями, но продиктованное его «собственным умом».
«Камо бегу от духа твоего и от лица твоего камо бегу?» — может воскликнуть теперь каждый русский человек, желающий убежать хоть на время от этой раздражающей больной хандры города. Но как «вечному жиду», не знающему отдыха и покоя, так и современному русскому человеку — нигде не найти уголка, где бы он мог «забыться и уснуть», не напившись до положения риз.
VI
Я вернулся в Москву усталый после этой неожиданной прогулки на Воробьевы горы. А мне еще предстояло, согласно программе, составленной одним знакомым москвичом, обедать у Тестова и после ехать в Петровский парк. Быть в Москве и не расстроить себе желудка то же самое, что быть в Риме и не видать папы.
В Москве трактиры куда демократичнее наших; впрочем, и не одни трактиры; то же можно сказать и про театры и про общественные гулянья. У Тестова, например, в этих роскошно-аляповатых залах с оркестрионом и массой половых в своих классических белых рубахах, вы увидите самую разнокалиберную публику: тут и помещик, и чиновник, и купец в поддевке и рядчик, и актер, не то что, например, в Петербурге, где и в ресторанах публика как-то специализируется; у Дюссо, Бореля или у Медведя вы, конечно, не встретите тех лиц, каких встретите в лучших московских трактирах, а если и встретите, то сейчас же заметите какую-то приниженную робость человека, попавшего в общество натянутых, строгих чиновников-дельцов и офицеров, которые измерят презрительным взглядом человека, видимо, не их круга. Совсем не то в Москве. Здесь везде рассчитывают на публику, на потребление en masse, а не на избранных. Кто не хочет «мешаться» с толпой — иди в клуб. Здесь нет именно этой приниженности и со всех сторон вы слышите громкие, оживленные беседы, часто заставляющие вас вспомнить язык комедий Островского. Тут распивает шампанское какой-нибудь помещик или инженер, а рядом скромно попивает чай целая купеческая семья средней руки, с чадами и домочадцами. Никого такое соседство не удивляет.
Это смешение, эта «толпа» производит приятное впечатление во всех местах общественных сборищ, и в этом отношении Москва решительно демократичнее Петербурга. В ней нет натянутого, мертвого вида наших общественных собраний, там не бьют в глаза те кастовые разделения, которые вы даже увидите в петербургских церквах, не давит эта брезгливая чопорность наших soi disant аристократических поползновений и боязни смешаться «со всеми», и вот почему все общественные сборища и увеселения в Москве оживленнее и проще и даже дали повод кому-то сравнить в этом отношении Москву с Парижем. Если прибавить к этому, что в Москве военный элемент не играет преобладающей роли, как в Петербурге, нет того чиновничьего престижа и погони за подражанием, хоть по внешности, высшим классам, то московская простота становится еще понятнее. Кроме того, нельзя забывать, что Москва громадный торговый рынок, а торговля, как известно, не очень обращает внимания и на фасон платья, и на манеры. Ей нужны больше всего деньги, где-б они не лежали.
Запах душистого скошенного сена и чудный воздух Петровского парка приятно щекотали обоняние после вони московских улиц. Вечер был славный и в Петровском парке было много гуляющих и катающихся. Этот большой парк с его дворцом, петровско-разумовской академией, некогда владение Разумовских, купленное потом казной — одно из более любимых загородных мест с дачами и множеством разных увеселительных мест, число которых прибавилось по случаю предполагавшегося открытия московской выставки, огромное здание которой выстроено на поле, против парка, в двадцати-пяти минутах езды от Страстного монастыря по конно-железной дороге. В числе увеселительных мест и ресторанов, тут же и знаменитый Яр, особенно посещаемый зимой на тройках… Если-б стены его могли рассказать обо всех безобразиях, которых они бывали свидетелями во время разгула московских старых и молодых купцов, то эпопея была бы, полагаю, очень любопытная, хотя и однообразного характера.
Недалеко от петровского дворца, почти против здания выставки стоит Петровский театр, ветхое, неказистое деревянное здание прежде казенного театра, приведенное в некоторый порядок и с нынешнего года арендуемое содержательницей зимнего частного театра, так называемого, пушкинского, труппа которого считается по справедливости, лучшей частной труппой Москвы. Однако, летом этот театр посещается лениво; он был арендован в расчете на выставку и, вследствие её отмены, содержатели, конечно, должны нести убытки, несмотря на хорошую труппу, среди которой выдаются такие талантливые артисты, как г-жа Красовская, замечательно даровитая комическая старуха, и гг. Бурлак-Андреев, Писарев и Киреев. Быть может, впрочем, плохие сборы театра до некоторой степени объясняются и строго-серьезным репертуаром театра, который не допускает к себе оперетки, столь любимой Москвой, и нынешним летом окончательно победившей и Петербург.