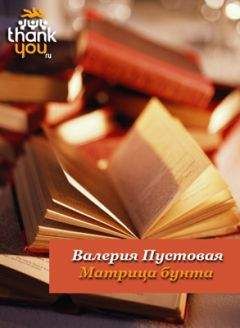Великая легкость. Очерки культурного движения - Пустовая Валерия Ефимовна
Памятный скандал вокруг вопроса, заданного телеканалом «Дождь»: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?» – сигнализировал как раз об этом смещении. Большая история, понимаемая с точки зрения ценностей семейного круга, «нерассуждающей домашности» (Степанова), лишается той значимости, которая видна только в масштабе народа, эпохи, земли. Эпическая идентификация с ценностями, конкурирующими с личным счастьем, становится в таком случае для героя (и гражданина) невозможна. Литература, как-то соотносящаяся с надличными запросами, воспринимается консервативной, какой бы модной ни была: вспомнить только гаррипоттеров рефрен – что есть вещи более страшные, чем смерть. Соперничество счастья и доблести, права и долга – еще один удивительный извод циклично воспроизводимого на Руси спора славянофилов и западников, государственников и либералов. Почему-то вопрос неизменно ставится именно так, в духе дурной альтернативы, как ставит его, например, Лев Данилкин в книге о Гагарине: «Правда ли, что подлинными героями 1960-х были вовсе не Королев и Келдыш, Гагарин и Титов, а Сахаров и Солженицын, Синявский и Горбаневская?» [36] «Нерассуждающая домашность» работает компенсатором государственного пресса, и, может быть, не случалось бы драматических казусов, вроде ломовой бестактности «Дождя», если бы и государственное осмысление прошлого не было столь же бесчувственно к сотням тысяч судеб, записанных в расходуемый бюджет.
Блокада героизированная, в памяти потомков оправданная победой, – историческое место силы, ресурс гражданского самосознания. Блокада, проживаемая домом и семьей, в памяти личной, не мобилизованной на нужды фронта, – «стыдотоска». Это точное, врезающееся, в разговоре об истории эффективно работающее определение – из книги Полины Барсковой «Живые картины», недаром названной лучшей книгой года в тех литературных кругах, где «Обитель» Прилепина безоговорочно воспринимается как провал. Соловки Прилепина и блокада Барсковой конкурируют, как место силы и «стыдотоска», как страна победителей и город дистрофов, как национальная мобилизация и «нерассуждающая домашность».
В отличие от Данилкина, предлагающего нам сделать невозможный выбор между равно необходимым, Барскова альтернативы сближает. «Живые картины» – первая проза поэта, и сближение далеких, несоединяемых иначе мотивов и пространств возможно только благодаря поэтической сочетаемости.
В романе Кузнецова, исполненном новой сентиментальности, главка, вершаемая торжественным утверждением равнозначности последнего оргазма старика и космического старта Гагарина, смотрелась органично. В книге Барсковой такие тождества не могут поначалу не задевать, и даже сочувствующая Варвара Бабицкая ловит себя на том, как «крепнет раздражение при попытке понять, как связаны лифчик из американского секс-шопа стальными иглами вовнутрь и бабушкин капустный пирог с героической обороной Ленинграда» [37].
Тема блокады и правда действует в книге наравне с мотивами любовными и домашними – не претендует стать сюжетом. И зимняя картина, открывающая книгу, – зареванная девочка в снегу, – как скоро выяснится, не имеет отношения к «той зиме»: рассказывает не о блокадном опыте, а о личной травме автора. Разрыв планов повествования ширится, блокадный опыт все дальше от того, что определяет самоощущение лирической героини, Полины, и образ автора, перебирающего отговорившие блокадные души в архиве, сменяется образом автора в детстве, в юности, в зрелости – в пионерском лагере, в мучительной питерской любви и, наконец, в Сан-Франциско, где прежняя страсть-зависимость настигает вроде бы уже переболевшую ею, переросшую себя-подростка женщину.
Именно эта отдаленность личной травмы и общего катастрофического опыта позволяет автору нелицемерно и прямо говорить о процессах, происходящих в исторической памяти. Книга Барсковой – убедительный художественный довод против инерционного воображения истории, против имитации вживания и против догматического почитания исторического предания. Мы претендуем на возможность понять катастрофу, оставаясь на безопасном от нее отдалении, в раме собственного времени. «Живые картины» помогают увидеть: подступаться подобным образом к исторической правде – все равно что оглядываться, крепко зажмурясь, игнорируя невыносимую достоверность пережитого.
Травма мучительной любви-зависимости в прозе Барсковой не претендует на соразмерность блокадному страданию, но оказывается единственно честным и плодотворным способом осознать механизм изживания невозможного и не вообразимого теперь исторического опыта – опыта, в общем-то и не нуждающегося ни в воображении, ни в реконструкции, а именно что в прощении, в том, чтобы принять его в сердцевину народной и личной памяти, и, приняв, не сломаться.
«Работа прощения» в этом смысле пронизывает всю книгу, и на какое-то время кажется, что, по слову Барсковой, и в нашем сознании, кроме нее, «ничего не помещается»: травма, будучи изживаема, срывает и механизмы защиты, подсознательной блокировки блокады. Этот опыт интенсивного взгляда на то, что хочется спрятать, интенсивного приятия того, что нельзя допустить, оставляет в итоге читателя в ощущении удивительно посвежевшем, исцеленном от припрятанных от себя болей, личных и народных, в готовности жить дальше с прорвавшейся в настоящее и прощенной историей.
Так решается проблема купированной национальной памяти – как сказано у Макушинского: «Он всю жизнь старался, и теперь старается, не думать об этом. Если думать об этом, то как тогда жить?» На фоне набирающей не только популярность, но и государственную поддержку идеи, что жить в сегодняшнем мире возможно, только не думая, интересно прочесть книгу, в которой обдумывание проблемы – ключ к жизни.
Однако в национальном масштабе прощение истории такая же, кажется, утопия, как национальное покаяние – так ведь и не состоявшееся в России, сколько к этому ни призывали заново обращенные художники и публицисты. Терапия истории – сюжет не для большого национального романа, а для короткого личного погружения в очаги памяти – медиумического видения, новеллы, фрагмента. Толстенный роман Кузнецова и тоненькая книжка Барсковой задают на деле один и тот же масштаб разговору об истории: разламывают роман. История, которую нельзя вполне представить, требует каждый раз новых стилистических и жанровых решений, и переключение повествователей в романе Кузнецова – выражение не только «родоплеменного сознания» [38], но и недостоверности авторского свидетельства, сужения эпической осведомленности, попытка переложить бремя рассказывания на героев, чья узость зрения оправданна, – иными словами, выражение формата частного проживания истории, разбирательства не с национальной, а с личной памятью о прошлом.
Которое в таком случае можно любить и за бабушку, и за мороженое из тридцатых.
5) Прощание. Лубок и doc.
(Роман Сенчин «Чего вы хотите?» – Всеволод Непогодин «Девять дней в мае» – Алексей Никитин «Тяжелая кровь» – Александр Снегирев «Вера»)
В стабильные нулевые призывали большую историю – но, когда припекло, началось с обсуждения цен на гречку. Так и большие литературные ожидания, подкрепленные, с одной стороны, упадком традиционной крупной формы, а с другой – возрастанием живого материала истории, требующей как раз неосвоенных, компактных и расторопных способов художественного реагирования, реализуются пока в очертаниях простых и будничных: благодаря прямой, не ограненной литературной технике. Как ни призывал, например, Липовецкий единомышленников по «сложной» и «анемичной» прозе не упустить «возможность насытить свою “сложность” энергиями политического протеста», пока в повестях про «сейчас» заметнее крен в протопрозу или ее имитацию, вынужденное или артистически оправданное опрощение повествования.