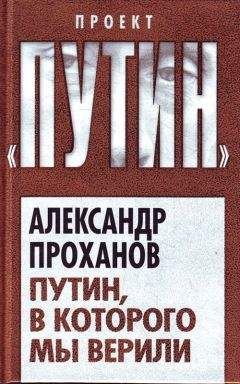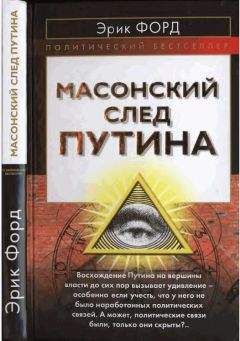Георгий Адамович - Дополнения к "Комментариям". Послесловие
Кто прав, кто ошибается – никто не знает. Огромное большинство людей ведёт себя так и так воспринимает жизнь, что должно бы по справедливости признать бессмысленность мира. Часто это люди верующие или «с принципами». Но и у этой веры, и у этих принципов вместо фундамента – поплавок, который в первую же бурю может опрокинуться.
Иногда это люди гениальные, необыкновенные. «Шу» скорей стесняет творчество, чем помогает ему. Исключения – наперечёт. Кстати, можно вспомнить Гамлета, который после прохода войск Фортинбраса говорит: «Велик тот, кто без великой цели не восстает… Со стыдом гляжу, 20 000 войска идёт на смерть. За что? За клок земли, где даже нет и места прижаться всем».
Комментарии <VIII>
(Современные записки, 1939, №69, с.265-271)
У литературы есть странное, с виду как будто взбалмошно-женское свойство: от неё мало чего удается добиться тому, кто слишком ей предан. В лучшем случае получается Брюсов, пишущий с удовольствием и важностью, поощряемый общим уважением к его «культурному делу», переходящий от успеха к успеху – и внезапно проваливающийся в небытие… У Блока – в каждой строчке отвращение к литературе, а останется он в ней надолго.
Некоторые наблюдения опасны в качестве рецепта. Мысль о «патенте на благородство», связанном с отвращением к литературе, может, конечно, вызвать скверную игру в усталость или в ироническое всепонимание, со вздохами на позднее-римский лад. «Ah, tout est bu, tout est mange, plus rien a dire»[2]. Не только может, но и вызывает… Это досадно, как всякое притворство, однако ничуть не колеблет самой мысли. Настоящий писатель пишет с тоской и даже смятением, чувствуя, что всё ускользает, каждое слово предаёт, как предаёт солдат, старательный, но не понимающий замысла сражения, – а графоман пишет «много и хорошо», хлопая себя по ляжкам после работы, как Боборыкин. У Боборыкина нет видения и потому нет искажения. У него слова только заполняют пустоту, зиявшую перед ним до писания, и он радуется заряду энергии и наглядности результата.
Возражения. Пушкин, глубочайший «литератор», конечно, и, кстати, тоже покрикивавший от удовольствия после «Бориса Годунова». Но во-первых, Пушкин умер в том возрасте, когда ощущения такого порядка ещё не успевают пробиться, – и вопрос, чем был бы, что дал бы Пушкин, проживи он нормально-долгую жизнь (вопрос, блистательно, хоть и немного поверхностно затронутый Константином Леонтьевым в фантастическом предположении, какой получилась бы у Пушкина «Война и мир»), уже содержит в себе опровержение торопливых и квазибезапелляционных суждений по Пушкину тридцатисемилетнему (особенно, если вспомнить пушкинские стихи последних лет, смутно похожие на поздние бетховенские квартеты или живопись Рембрандта и уже как бы подтачивающие всякую творческую радость, которая может быть подточена, оставляющие лишь неустранимое, редко кому доступное, «холодный ключ забвенья»). А во-вторых, Пушкин был одушевлён своим колумбовски-петровским литературным предназначением и всякими авгиевыми конюшнями, которые ему надо было расчистить. Другое возражение – Толстой и его знаменитое: «Люблю жену, но роман свой люблю больше, чем жену». Тут возражение – если в него вдуматься, – оборачивается против самих возражающих. Именно потому толстовское бегство из литературы, или от неё, и полно смысла, что ему предшествовало такое упоение ею, – как вообще в Толстом всё чисто духовное значительно тем, через какие стихийные и животные толщи оно пробилось, не ослабев. Толстовское отвращение – урок тем, кто отвращается слишком быстро, «на двух статейках утомив кое-какое дарованье»: сначала полюбите, господа, то, что в литературе достойно любви, а уж потом бегите, разочаровывайтесь! Иначе гримаса на лице капризна и глупа.
Ещё – «против». Пруст, пробковая комната, умирание – и страстно-настойчивое дописывание романа. Надо признаться, это самое веское «contra», и самое смущающее… Ответить, объяснить какой-нибудь выдумкой было бы нетрудно, как вообще выдумать легко всё. Но, по правде сказать, – ответить нечего. Чувство долга? Стремление к бессмертию, хотя бы и фальсифицированному? Скорей всё-таки тут сказалось то «человеческое, слишком человеческое», что было в Прусте, чем то, что было в нём ослабленно-божественного.
Стопка рукописей на столе – стихи проза. Кто из этих авторов талантлив, кто бездарен – не так интересно, при очевидной скромности талантов и почти всякому в наши дни доступном умении затушевать бездарность. Но поговорить хотелось бы только с некоторыми. С теми, у кого в первой же фразе слышится возможность будущего, может быть, через сорок лет, на вершине успехов, недоумения перед праздностью, тщеславием, кичливостью, пустотой, бессовестностью почти всего, что принято называть литературой. Многие писатели связаны безмолвной круговой порукой, о которой никто, кроме них, не догадывается.
* * *
Перечитывая Шекспира – и изумляясь «до мозга костей, до корней волос» некоторым совершенно невероятным страницам.
Когда родилась новая литература? Когда Полоний подошёл к Гамлету с вопросом «что вы читаете, государь?» – и Гамлет ответил:
– Слова, слова, слова…
Был как будто ясный день. Все стояло на своих местах, и все было отчётливо видно, до мельчайших линий и очертаний. И вдруг кто-то приоткрыл дверь, за которой мелькнул другой свет, другие тени, изменяющие представление о том, что знакомо было раньше… Сравнение примитивно, конечно, но передает впечатление довольно верно. Со «словами, словами, словами» что-то куда-то распахивается, – именно «что-то», «куда-то», потому что и до сих пор никому ещё не удалось подобрать нужные, точные выражения для этого открытия.
Прошло триста лет, – и мы всё ещё живём Шекспиром, вернее, идем шаг за шагом в найденном им направлении. Как это, на первый взгляд, ни парадоксально, Пушкин – при всей его обращённости вперёд в духовной жизни России – в области чисто творческой, личной, вне каких-либо национальных и исторических соображений обращён назад. Пушкин – против «Гамлета» (а в особенности та охранительно-формальная критическая традиция, которая на Пушкина демонстративно предъявляет какие-то особые права). По самому составу чувств, по материалу – Пушкин до «Гамлета» и ведет свою волшебную и беспроигрышную творческую игру без тех элементов, при которых срыв иногда неизбежен. Срывается сразу Лермонтов, будто в колоду карт ему подбросили какие-то двойки и тройки, с которыми большого шлема не назначить.
Замечание на всякий случай: рассуждать – не значит умалять значение или чего-либо «недооценивать», тем более в данном случае. На своем языке, в кругу своих понятий приблизительно то же говорил Белинский, – а он, хоть и не всегда поспевая за Пушкиным, понял его всё-таки проще и глубже, чем Достоевский, понявший только самого себя. (Недолёт мысли у Белинского, перелёт у Достоевского: но в первом случае Пушкин остаётся перед нами, а во втором он позади, – и видны лишь будущие бесконтрольные мистические фантазии, вплоть до Андрея Белого.)
* * *Годами ходишь «вокруг» да «около» каких-то необходимых, в каждой строчке подразумеваемых слов, – а когда хочешь наконец извлечь их в чистом виде из потока привычных периодов, оказывается, что они растворились в них почти без остатка.
Конечно, лирически ссылки на «наше небывалое время», на «одиночество», будто бы заставившее «многое взвесить и многое пересмотреть», на возвращение к «голому человеку на голой земле» – на границе пошлости… Если вообще об этом говорить не следовало, то теперь больше говорить об этом решительно невозможно! «A consommer de suite», как обозначается на обёртке скоропортящихся продуктов. Опрятность в выражениях и в том, что выражается, – добродетель обязательная.
Постараемся же говорить «опрятно» – о том, что достойно любви в литературе и что скорей вызывает усмешку. Как часто случается, мысль мелькнувшая в результате случайного впечатления: огромные афиши на парижских заборах, возвещающие о «Жанне д'Арк, оратории в двух частях с прологом и эпилогом, сочинения Поля Клоделя». Мгновенно, как при вспышке молнии, все представилось абсолютно отчетливо, сверкнули все причины, доводы и следствия, – а потом пришлось ощупью брести во тьме, пытаясь восстановить понятое.
Основная аксиома: надо писать правду, – то есть верно о верном. Но тут же сомнение: что такое правда? – и почему, самонадеянно считая законом свой личный вкус, ты так уверен, что в оратории о Жанне д'Арк её быть не может? Безотчетно, всем существом своим ощущая возможность обоснования, упорствую – «Нет, её быть не может», – но и недоумеваю: почему? История литературы бурно протестует, проносясь в сознании со всеми своими чудесами, школами, «измами», вдохновениями, сказками, причудами, – и вопиёт, что бессмысленно сводить творчество к грустному (и уж не бессильно ли старческому? – намекнёт, разумеется, кто-нибудь) перебиранию двух-трёх мотивов, очищенных от всякой позолоты. Однако, Бог с ней, с историей искусства и литературы, неубедительной, как всякая история, – и будем делать то, что нам кажется нужным делать, считаясь только с настоящим, а не с прошлым.