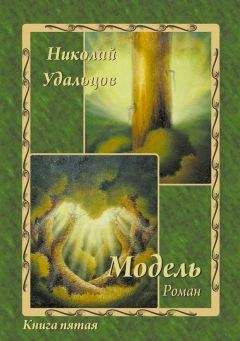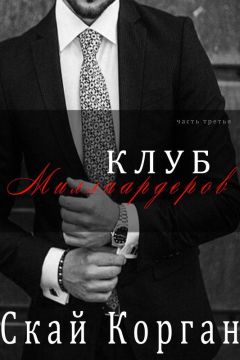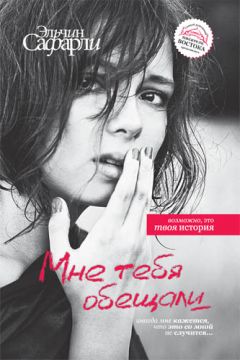Иоанна Хмелевская - Шутить и говорить я начала одновременно
Время от времени мать его все-таки заставляла проявлять заботу о ребенке, и как-то меня под его опекой направили в Варшаву на поезде. Наверное, мать потом не раз проклинала свое решение, потому что кто-то только что вернувшийся из Варшавы зашел к матери и в разговоре упомянул, что видел ее мужа. Поезда – из Варшавы и в Варшаву – стояли на какой-то промежуточной станции, и в окно он видел, как отец мой сидел в купе и читал газету.
– А ребенок? – в жутком волнении поинтересовалась мать.
Никакого ребенка знакомый рядом с отцом не видел. И мать, которая всегда была катастрофисткой, немедленно решила, что этот бесчувственный человек забыл о ребенке и тот, конечно же, выпал из вагона прямо под колеса поезда. А этот изверг спокойненько читает газету!
Что поднялось в доме, трудно описать. Телефона у нас не было, на месте матери я тут же села бы в следующий поезд и бросилась в Варшаву, по дороге на протяжении всей трассы выглядывая в окна по обе стороны поезда, нет ли где скопления народа. Вместо этого мать предпочла волноваться, пока из Варшавы не пришло известие, что я жива и здорова. Отец и в самом деле, как сел в вагон, так тут же забыл о дочери, чему я была очень рада, всю дорогу свободно шаталась по всему поезду, и со мной ничего плохого не произошло. Когда же поезд стал приближаться к Варшаве, я вернулась в купе к папочке, напомнила о себе, и мы вместе с ним добрались до дома бабушки.
Вообще же о взрослых я в то время была невысокого мнения. Многие из них при встрече со мной задавали кретинские вопросы: «Что слышно» и «Почему ты глазки не вымыла?»
На первый вопрос я давала исчерпывающий и правдивый ответ: «Радио». И в самом деле, что еще было слышно? Что же касается глаз, черными они были у меня от природы, и мне никогда в голову не пришла бы идиотская мысль намыливать глаза. Неужели сами не понимают, что глаза не моющиеся? В ответ на этот вопрос я лишь молча пожимала плечами. Ну что с дураками говорить?
Время от времени я, как и всякий нормальный ребенок, любила поиграть. Когда мне было четыре годика, моей любимой игрой стало производство елочных игрушек. Больше всего я любила клеить цепи и делать шарики. Хуже получались объемные звездочки. У меня был свой столик, стульчик и шкафчик, покрашенные белой краской. Их сделал для меня дедушка, и за этим столиком я работала. Умела пользоваться не только ножницами, но даже и циркулем и не очень любила, когда мне мешали. Предпочитала работать одна. Закрывалась в спальне, садилась за свой столик и, вся дрожа от счастья, занималась любимой работой. Если не ошибаюсь, приступала к ней еще летом.
Похоже, я с раннего детства испытывала потребность побыть одной. Когда мать после обеда укладывалась соснуть часок, я не только старалась не шуметь, но и дышать боялась, чтобы, избави Бог, ненароком не разбудить ее. Очень хорошо помню, что поступала так вовсе не для того, чтобы дать ей поспать, а просто мне доставляло удовольствие в эти часы чувствовать себя дома одной.
Вместе с тем хорошо помню истерику, которую я закатила по прямо противоположному поводу. Мать с отцом отправились к знакомым поиграть вечером в бридж, приходящая прислуга собиралась отправляться вечером домой, и мне предстояло немного побыть в доме одной. Не первый это был случай, и я всегда оставалась без проблем, тут же ни с того ни с сего закатила прислуге жуткую истерику: не останусь одна ни за что на свете! И такое устроила, что перепуганная девушка вызвала родителей, которые примчались в панике, не понимая, что со мной случилось. Ведь мне было уже девять лет, и первый раз я отмочила такую штуку. Возможно, прочитала какую-нибудь страшную книгу...
В куклы я не любила играть, не любила наряжать кукол. Видимо, не было во мне обязательных для девочки качеств, никаких материнских инстинктов, никакого желания заботиться, опекать. Не играла и в дочки-матери. Правда, запомнился случай, который свидетельствует о том, что и я не совсем уж была лишена добрых чувств. Я играла с куклой в саду, полил дождь. Я убежала в дом, кукла осталась на траве. Мы с матерью смотрели в окно на струи дождя, и мать продекламировала мне чувствительный стишок. Были там такие слова: «А там куклы мокнут, мокнут». Я взревела страшным голосом, глядя на брошенную под дождем куклу, мать никак не могла меня успокоить, и пришлось ей, бедняге, под проливным дождем мчаться спасать холерную куклу.
Вообще у меня было две куклы, Зузя и Растрепка, и собачка Азорек. Зузя и Азорек прожили со мной несколько лет, я повсюду таскала их за собой, потому что они были маленькие, удобные. Растрепка была большой красивой куклой, которой я сразу сделала прическу, как только мне ее подарили. Кто-то, увидев ее, вскричал: «Что за растрепка!» Так она получила имя. Возможно, кукол было больше, но я их не замечала, и очень скоро мне перестали покупать их.
Были у меня кубики, наверное, с самого рождения. Я построила из них башню, которая тут же обрушилась. Не успела я, по своему обыкновению, поднять рев, как мать поспешила воскликнуть:
– Ах, какая катастрофа!
Мне это жутко понравилось, я опять быстренько соорудила из кубиков постройку и, разрушив ее одним махом, в полном восторге вскричала:
– Ах, тлёфа!
Очень быстро мать поняла, какой педагогический ляп допустила, ибо в эту игру я готова была играть до бесконечности, а грохот разлетающихся кубиков мог кого угодно вывести из себя.
Итак, не было у меня кукол, зато было много других игрушек: краски, мелки, бусинки и книжки, книжки, книжки. Когда мне было пять лет, кто-то подарил мне серебряные часики, которые я тут же выкупала в Буге. Оказалось, часики этого не любят. Были у меня и коньки, только толку от них... Бегать мне не разрешали, одну гулять никогда не пускали, мне хотелось покататься на коньках, хоть попробовать, но на пруд меня тоже не пускали. Я умоляла отца и мать пойти со мной, но отцу было некогда, а матери холодно. Вот так я и не научилась кататься на коньках, хотя в квартире исчертила весь пол.
Любила я вышивать. Мать моя была большой специалисткой в этой области и с наслаждением занималась любимым делом. Мне тоже захотелось. В мое распоряжение отдали угол какой-то большой ткани, наверное, скатерти, и я с энтузиазмом приступила к работе. Мать потом часто с гордостью рассказывала об этом, хвастаясь талантами дочери. Откровенно говоря, качество моей вышивки вполне соответствовало моему пятилетнему или четырехлетнему возрасту. Мать объяснила мне, что вышивать надо по нарисованным линиям, и я в самом деле проявила сверхчеловеческие способности. За пределы нарисованных линий не вышел ни один стежок, хотя путаница получилась страшнейшая. Я лично этого первого опыта не помню, но результат налицо: вышивать я умею.
( В нашем доме постоянно жили собаки и кошки... )
В нашем доме постоянно жили собаки и кошки. Первой я запомнила Азу. Это была прелестная молодая легавая, которая во время игры укусила меня в плечо. Претензии по данному поводу я к собаке испытывала очень недолго, и никаких комплексов это событие во мне не породило. Следующим был Мишка, Мись. Как сейчас помню день, когда отец принес домой белый пушистый шарик, вызвавший во мне беспредельное восхищение. Когда щенок направился было в кухню, я оттащила его, наставительно заметив:
– Туда нельзя, Мись, ты будешь у нас комнатной собачкой.
– Правильно, а Аза – кухонная собачка, – пробурчала мать, услышав мои слова.
Комнатная собачка выросла в теленка весом не менее пятидесяти килограммов, и жизнь у нее наверняка была несладкой. Сейчас у меня разрывается сердце, когда я об этом вспоминаю, тогда же, разумеется, я не понимала, что такой образ жизни для кавказской овчарки наверняка был сущим мучением, поэтому Мись часто сбегал из дому и шлялся где-то дня по три, потом возвращался добровольно, к нашей огромной радости, и опять становился комнатной собачкой, до поры до времени.
Поскольку Мись был кавказской овчаркой, к нему постоянно проявляла интерес всякая домашняя скотина, главным образом коровы и овцы. В каждой нашей загородной прогулке с собакой нас неизменно сопровождали стада домашней живности. Коровы, овцы поднимались с травки и следовали за нами. Мисю было на это наплевать, хозяевам живности совсем наоборот. Помню, как какой-то мужик помчался за нами с дубинкой и кричал матери, что она украла у него стадо коров. Мы ничего не крали, но коровы и в самом деле окружали нас, хотя мы их не сманивали. А глупый мужик никак не хотел поверить, что они пошли за нами по собственной воле.
Его никогда не дрессировали, я говорю о Мисе, а не о мужике, был он умным сам по себе. С детства рос в обществе кошек и никогда их не обижал, а особым его расположением пользовались белые кошки, потому что другом его с самых ранних детских лет был Пимпусь, маленький беленький котеночек. Он тоже вырос в крупное животное размером с хорошего поросенка, и когда они с Мисем спали рядышком, нельзя было разобрать, кто из них пес, а кто кот. Если, разумеется, пса недавно мыли.