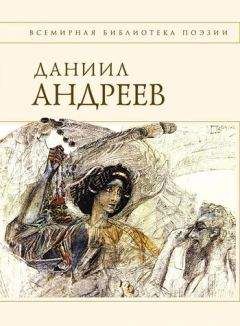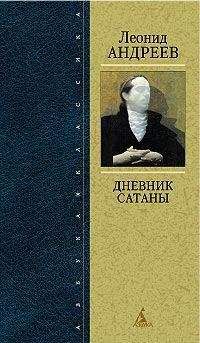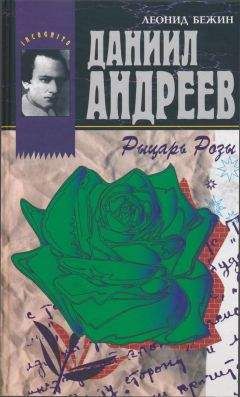Дмитрий Губин - Русь, собака, RU
Единственное, что мешало стройной теории о том, что элита начинает предпочитать содержание форме (а там, глядишь, шаг до размышлений о смысле жизни, об ответственности перед обществом и личной миссии на Земле), — это приобретаемые нашей элитой автомобили.
Суть британского (да и европейского в целом) подхода к выбору авто — в соответствии целям применения. То есть пока в загородном поместье скучает Jaguar, по городу бегает какая-нибудь малышка, легко влезающая в дырочку на парковке и минимально загрязняющая воздух. Вот почему в Париже даже очень небедный человек передвигается на Peugeot-206, по Риму — на Smart, а по Лондону — на Mini (мэр Лондона Кен Ливингстон даже публично назвал владельцев лондонских внедорожников идиотами). А у нас вы можете себе представить человека с состоянием от миллиона за рулем гольф-класса?! Там сразу будет Bentley. На худой конец — BMW X5.
Но, поразмыслив, я решил закрыть глаза на эту мешающую деталь, — ради красоты общей концепции.
Тем более, что вскоре после завтрака в «Пушкине» (который, кстати, называется «кафе», а не «ресторан» — ну, не еще ли одно лыко в мою строку?!) мне позвонил еще один московский мультик, которому рекомендовали меня как специалиста по дорогому петербургскому жилью.
Мы договорились встретиться — анекдот, но опять же в Mi Piace. Когда я пришел, перед входом не было ни одной машины, приличествующей господину, намеренному потратить на недвижимость в Питере миллион-другой-третий. Однако мультика я вычислил легко: по такому, знаете ли, скромненькому свитерку от Lora Piana, для производства которого пух с живота ягнят вручную смешивают с шелком — чтобы грело, как шерсть, но ласкало тело, как шелк.
— Знаете, — начал я, — дорогие апартаменты в Петербурге делятся на два типа: московского и иностранного…
— Московского — это когда непременно монолитный железобетон?
— И подземный гараж.
— А иностранцы хотят лепнины и старых каминов? Могу представить: подземный гараж от Трезини! Ведь в Петербурге гаражи появились только в начале века? Кажется, у Толстого в «Хождении по мукам»? Первые кооперативы на Каменноостровском, механические прачечные, центральные пылесосы… Мне нужен старый петербургский дом! К черту подземный гараж!
…Это был упоительный ужин. Мой собеседник был замечательно образован. У него была своя философия инвестиций. Он пояснял, что хочет вкладываться не в квадратные метры, а в российскую историю.
— Но вы понимаете, — расслабленно говорил я, — что в старой квартире ГИОП будет проверять, не утрачена ли вы внесенная в опись историческая кочерга?
— Это правильная практика. Никто не должен иметь права покупать историю целиком. Я хочу купить право жить внутри нее.
Я был очарован, пленен и влюблен, а окончательный катарсис испытал, когда после ужина мультик пожал мне руку и сел в Mini Cooper S.
Пессимизм, с каким я обычно глядел в будущее страны, уступал место картине постепенной эволюции в князи из грязи (помню, риэлтер, продававшая в Петербурге квартиру ценой $3,5 миллиона, неожиданно сорвалась: «Большинство моих клиентов — это быдло! Богатое быдло!» — но тут же прикусила язык, потому что не должна была так говорить).
И вот здесь я бы и поставил точку, когда бы на следующее утро не получил от обаявшего меня покупателя истории звонок.
— Знаете, Дима, — извиняющимся тоном произнес голос, — жена сказала, что собирается перегонять в Петербург Range Rover. Может, поищем все-таки с подземным гаражом?
Про любоффф
Известное утверждение, что так называемая любовь есть результат игры гормонов, с удовольствием распространяется людьми либо ограниченными, либо бесповоротно циничными. По преимуществу, кстати, последними.
Томление тела есть результат игры гормонов, желание чужого тела тоже, но любовь — еще и порождение культуры.
Вот, скажем, при Леониде Ильиче мальчики и девочки массово читали журнал «Юность», нашпигованный подростковыми повестями про драку во дворе и первый поцелуй на закате-рассвете, и вырастали с убеждением, что это и есть любовь. Подрался, защитил честь девушки, нежно поцеловал, испытал счастье. Повести Крапивина и Фраермана, старший Гайдар с его Тимуром, девочкой Женькой и хулиганом Мишкой Квакиным — все было лыком в ту же строку. Первый поцелуй был идеален, и узнавание, что в поцелуе участвуют не только губы, но и язык, и слюна — потрясало потом многих.
Мальчики и девочки росли в твердом убеждении, что любовь (с первым безъязыким поцелуем) возникает в возрасте 14–18 лет, и непременно, а отсутствие любви было симптомом неполноценности, как сегодня свидетельствует о неполноценности отсутствие хоть какой-то карьеры годам к 35. Старшие школьники и студенты времен Леонида Ильича чуть не ежедневно себя переспрашивали: люблю ли я? Влюблен(а) ли я? Или кажется? Или нет?
Большей частью, конечно, казалось. Но в концентрированном растворе не могли не выпадать кристаллы. Ради любви следовало жениться — и женились. Те, что женились не по любви, делали вид. Брак по расчету, считавшийся вполне нормальным в старой России, в советской выглядел безнадежным мещанством. Любовь во времена СССР была ценностью № 1. Далее следовали книги, водка, «Волга», полированный гарнитур, ковры, хрусталь и коммунизм.
Любовь, кстати, знавала такие глобальные изменения на уровне не то что наций — континентов. Если сексуальная революция свершилась в XX веке, то любовная — еще в Возрождение. Дело в том, что до этого, в Средневековье, важен был объект любви, а не субъект. Важно было не то, что полюбил, а кого полюбил. Рыцарю, например, полагалось любить Прекрасную Даму. Иная дама просто не могла быть объектом страсти, и поколения за поколениями рыцарей вырастали на этой идее, как сегодня поколения растут на мюслях и телепузиках. Иные любови (к непрекрасной даме и не к даме), полагаю, тоже случались, потому что любовь все же — не только культура, но и гормон, но их держали в тайне, спрашивая себя, подобно студентам эпохи Леонида Ильича: люблю ли эту, прости, господи, батрачку, байстрючку? Неужели? Ох…
А вот Возрождение все изменило. Оказалось, что достаточно любить — и неважно, кого. Субъект любви стал важнее объекта. Замечательно это описал Давид Самойлов:
Говорят, Беатриче была горожанка
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.
С тех пор просто любить, невзирая на красоту или богатство, в массовом сознании стало оправданным. И Пушкин с его сотнями увлечений, и Маяковский с его парой огромных чистых любовей и миллионом маленьких грязных любят, и Собчак и Нарусова, и Горбачев и Горбачева, и Элтон Джон и Дэвид Ферниш — все это вышло оттуда, из Возрождения, от Данте и Бетриче, от Петрарки и Лауры, от Микеланджело с Давидом («мой мальчишка», как он его называл). Важным оказалось иметь талант испытывать чувство, противоположное природе жизни, основу которой составляет инстинкт самосохранения и выживания.
Любовь — это когда жизнь любимого важнее собственной жизни, и в любви это так очевидно, что вопрос: люблю ли я? влюблен ли я? и не выдумал ли это я? — самой своей постановкой означает отрицательный ответ.
В советские времена любовь во многом была придуманной книжной ценностью. Эта ценность порой разрушалась от ненаступления любви, а порой — от вмешательства физиологии (полагаю, что пресловутый секс по-советски, при спящих за стенкой родителях, с выключенным светом, под одеялом, под которое ныряли в лифчике и трусах, был не только следствием половой непросвещенности, но и попыткой защитить свою книжную любоффф). Но все же главным убийцей любви во все времена был страх. Страх, что твое персональное чувство не соответствует массовому представлению о чувствах.
А представления меняются, и сильно.
Главной темой новейшего российского времени стала идея о том, что все можно купить. Поэтому любовь в сегодняшней России не исчезла, но кристаллизация стала происходить реже. Ценность любви в массовом сознании уступила место материальным ценностям. Неконвертируемость любви в эти ценности не столько девальвировала ее, сколько вернула в средневековье. Если все продается, то покупать нужно лучшее. Если появляться на людях с женщиной (мужчиной, мальчиком, собачкой) — то с самыми крутыми. «Подруга-модель» («муж-банкир») стало важно. Чуфффства — нет. О чуфффствах — то есть том, что вне рынка — стало принятым говорить иронично: ведь кто вне рынка — тот лох. Хозяин жизни должен быть богатым, крутым, циничным, желательно со стоящим членом, что, впрочем, легко достигается благодаря фармакологии. На чувства, что характерно, фармакология не ориентирована.
Я не говорю, что деньги убивают любовь. Я даже знаю истории нескольких сильных, сжигающих страстей, начинавшихся с секса за деньги. Но трансформация субъект-объект решительно меняет проявления чувств.