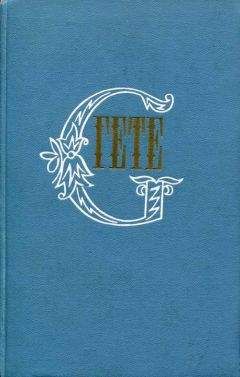Василий Бетаки - Русская поэзия за 30 лет (1956-1989)
Но когда случается ему вырваться к темам вне будней — к пафосу разрушения и злобы — он снова поэт, хотя и страшный в своей бесчеловечности.
В стихотворении под зловещим названием "Кухня времени" он воспевает некую Хозяйку — символ людоедства!
А что если ужин начнет багроветь,
И злая Хозяйка скажет "Готово!"
Растает зима от горячих кровей,
Весна заснежит миллионом листовок..
И выйдет Хозяйка полнеть и добреть,
Сливая народам в манерки и блюдца
Матросский наварный борщок октябрей,
Крутой кипяток мировых революции!
Написано мастерски, а если забыть, что людоедство тут это и есть предмет романтических восторгов — так и вовсе здорово! Всё, что скрывали демагоги партии за условными фразами лозунгов, поэт
назвал по имени! Чего стоит одна только концовка этого каннибальского гимна, в котором коммунизм и нацизм — обе крайние разновидности социализма — ставятся в один ряд и одинаково прославляются! Справедливо, ведь, ибо оба они называют себя орудиями для разрушения старого мира и инструментами создания нового порядка.
Мы в дикую стужу в разгромленной мгле
е Стоим на летящей куда-то земле,
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой,
И свастикой черной, и ночью седой
Средина двадцатого века!
Написано пером — не вырубишь топором!
Восходящая свастика не противоречила кровавой звезде" ведь читали все мы рассказ Риббентропа о том, что он «в Кремле «чувствовал себя как среди старых партийных товарищей» (так и написано у него parteigenossen).
… Но если в "Песне о ветре" было что-то кроме пафоса разрушения, то в «Кухне времени» — только ярость ради ярости. Ну, а когда этот свой ветровой настрой поэт обращает на трудовой энтузиазм все тех же зловещих тридцатых годов, то остается от всей романтики только его искреннее желание быть рабом, и даже попросту стать "винтиком-шпунтиком" сталинской индустриализации.
Мастерство ранних стихов кажется уже ему чем-то недостойным эпохи, и он просится в переплавку, как китаец шестидесятых годов:
Наполни приказом мозг мой,
И ветром набей мне рот,
Возьми меня в переделку,
И двинь, грохоча, вперед!
Самое страшное, что при всей кажущейся пародийности, эти стишки не пародия, не стёб, это ведь написано всерьез!
Что-то похожее на культуру подозрительно, интеллигента надо перековывать!
(так есть у него длинное стихотворение о том, как неграмотный сын сельского узбекского бедняка старается разоблачить подозрительного учёного…).
А Луговской в этом и ищет свою романтику. Ну и находит ее в колониальной тематике. Неуклюже и понаслышке подражая Киплингу, он убеждает читателя и себя, что «Большевики пустыни и весны» освобождают узбеков, туркмен и прочих людей Советского Востока». От чего — неясно, но освобождают. «Мы несем цивилизацию в дикую пустыню, поскольку мы — в социализме, а они — в феодализме, ну а культуру феодализма надо ломать, это наша священная миссия». Таково схематически содержание книги «Большевикам пустыни и весны».
Это примерно содержание половины его поэзии, если избавить ее от рифм и прочего, что Луговскому теперь явно необязательно..
Он, безусловно, искренен в этом своем пафосе, и когда оказывается, что никаких садов в пустыне так и не насадили, поэт, спасая свою веру, обращается к голому, крикливо-одическому тону, и сочиняет гимны уже не грозному людоедству, а обычной бюрократии. Это уже в первые послевоенные годы.
Кстати, стихов о второй мировой войне у Луговского почти нет.
А в 48, одном из самых страшных советских лет, — пожалуйста:
На столах обычные предметы,
Трели телефонного звонка,
Буду говорить о беззаветных,
Рядовых работниках ЦК.
Машинистки, телефоны, папки,
Желтые, как азиатский зной…..
Даже в самой рассоветской поэзии воспевание бюрократа встречается не так уж часто! Верит ли Луговской в те фразы, которыми он славит чиновника, лицо в русской литературе традиционно
мало уважаемое?
Верит! Оды чиновнику. то есть начальству вытекают логически из поэтичного упоения ролью винтика! Но как надо поглупеть, чтобы этим ещё и гордиться! И когда в 1951 году в последней книге стихов, названной поэмой, в книге «Середина века» Луговской радуется, что
"У нас дорога в коммунизм
в снегах, в крови легла" —
то удивления это не вызывает. Только показывает, что даже не став циником, Луговской все же утратил талант, ибо воспевание злобы как поэтический лейтмотив — бесплодно..
А уж прославление чиновничества…..
И особенно удивительно, что некогда написал он, ну вовсе на него непохожее единственное не похожее стихотворение «Медведь».
Привожу его тут (от удивления) полностью
МЕДВЕДЬ
Девочке медведя подарили
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью
Важный зверь с полночною душой.
Девочка с медведем говорила,
Отвела для гостя новый стул,
В десять спать с собою уложила,
А в одиннадцать весь дом уснул.
Но в двенадцать, видя свет фонарный,
Зверь пошел по лезвию луча,
Очень тихий, очень благодарный,
Ножками тупыми топоча.
Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть.
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.
И тогда ему промолвил слово
Облетевший многодумный бук:
«Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?»
«Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах.
Новый год справляет новоселье,
Чатыр-Даг в снегу и облаках».
«Не ходи, тебя руками сшили
Из людских одежд, людской иглой,
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.
Кто твою хозяйку приголубит?
Мать встречает где-то Новый год,
Домработница танцует в клубе,
А отца — собака не найдет.
Ты лежи, медведь, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари.
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.
Путь далек, а снег глубок и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям»
1939 (!) написано почти одновременно с тем. фашистским стихом, который выше цитируется….
6. БРОДЯГА ОКАЯННЫЙ (Сергей Марков)
Прежде всего прошу не путать поэта и крупного русского географа Сергея Николаевича Маркова с двумя истинно советскими недопоэтками — его однофамильцами…
Как известно, большинство поэтов рано или поздно переходят на прозу.
А вот знаменитый географ Сергей Марков — наоборот первые стихи опубликовал тогда, когда его известность как учёного и писателя была уже немалой: семь книг по истории географических открытий и роман "Юконский ворон" прославивший автора среди молодежи…
К началу публикации стихов за спиной Маркова было уже многое: и жизнеописание полярного исследователя Бегтчева и уже упомянутый тут роман «Юконский ворон» о странной любви и приключениях первопроходцев на Аляске в начале 19 столетия, и ещё фундаментальный труд по истории картографии… Муза дальних странствий переселилась в стихи из его науки и его прозы.
Поэт Марков на целое поколение младше самого себя.
Первые его публикации появились в предвоенные годы, рядом с теми молодыми поэтами, кто тогда только начинал, как К. Симонов, к примеру…
Сравним стихи 1924 года и стихи сороковых. Они почти неразличимы меж собой.
Какое раннее? Какое более позднее? Без даты не понять. Поэт не менялся — вот его странная особенность:
О чём звенит камышный ворох?
Где, как скопившаяся боль,
Сочится в стынущих озёрах
Слезами мраморная соль?
А вот строки из его стихотворения «Землепроходцы» 1947 года:
Просторы открывались как во сне,
От стужи камни дикие трещали,
В Даурской и Мунгальской стороне
Гремели раскалённые пищали.
И если у других поэтов экзотический мир существует для того, чтобы в него вломиться "со своим уставом", то Марков не вламывается, он сливается с жизнью и культурой, вроде бы чуждыми европейцу. В этом он противоположен и Тихонову и Луговскому, решавшим "колониальную тему" с "позиции силы": А у Маркова вот как:
«Мерзлые юрты не знают мести,