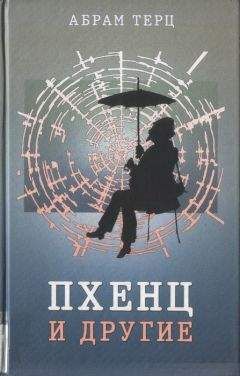Абрам Вулис - Литературные зеркала
Многообещающий (по аналогии с Томпсоном) Н. П. Андреев («Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне», Л., 1929) дает (под номером 329) всего одну подходящую сказку, да и то неустойчивую по своим сюжетным признакам, «Елену Премудрую»: «Герой три раза прячется от нее с помощью животных (или старика и старухи) в дереве, в желудке рыбы, оперении птицы и т. п.; наконец, прячется за волшебным зеркалом (в волшебной книге и т. п.); царевна его не находит, он получает ее руку». Щедрее предметный указатель В. Я. Проппа к «Народным русским сказкам» А. Н. Афанасьева в издании 1957 года — здесь на слово «Зеркальце» даются четыре адреса.
Что ж, новости эти меня радуют, но, если поразмыслить, к разгадке тайны не приближают: происходит экстенсивное развитие познаний, а не качественный их рост.
Лишь однажды вдруг из информированных библиографических источников вырывается лучик надежды: сперва название, а несколько дней спустя имя автора. И уже они запечатлены на бланке заказа. Поль Седир, «Магические зеркала», Вязьма, 1907 год. Шифр-единственный И 78 — 218.
Ныряет заказ в бездонные недра библиотеки и возвращается не скоро. Но — возвращается, что само по себе служит печальным признаком. Если книга в библиотеке есть, ее тебе предоставляют. Если заказ лежит перед тобой, значит, он превратился в отказ. Книги нет. Резолюция, перечеркнувшая мои надежды, немногословна и, коль по-настоящему призадуматься над ней, саркастична: «За № Х96004 от 14.XI-80». Получается, читатель сидит в зале почти шесть лет (на моем заказе дата 24 февраля 1986 года), если только не удрал сквозь зеркало магическим способом, взятым из книги. А вернуть его (и книгу) обратно без помощи магических зеркал нельзя. А узнать, что такое магические зеркала, можно только из одноименной книги.
Или, черт побери, из художественной литературы!
Глава II
НАШИМ ВЕРГИЛИЕМ БУДЕТ ОВИДИЙ
Приключение одного бессердечного юноши
Случилась эта история в те идиллические времена, когда современных зеркал еще не было, хотя их идея буквально витала в воздухе, напоенном прекрасными средиземноморскими ароматами. Полированный металл уже тогда использовался в качестве зеркала.
Еще раз сошлюсь на легенду о том, как Архимед в грозный час собрал греческое войско в единую геометрическую фигуру, окованную (или окантованную) металлическими щитами, которые образовали вогнутое зеркало, и спалил вражеский флот. Так ведь каждая часть составного зеркала тоже была по меньшей мере зеркалом.
Миф о Персее содержит еще более раннюю информацию о зеркале: металлический щит, дарованный герою Афиной, позволял смотреть на Медузу Горгону, не глядя на нее. Благодаря этому щиту Персей без риска для жизни приблизился к Медузе и отрубил ей голову.
Но даже если бы ремесленники сидели сложа руки и решительно никаких металлических изделий тогдашнему обществу не поставляли, все равно зеркало было изначально даровано людям от природы. Где бы ни селился человек, где бы ни останавливался он на ночлег в кочевые часы своей истории, рядом с ним вода сверкала и завораживала своими безукоризненными плоскостями. Человек испокон веков встречался с феноменом отражения — и волей-неволей принимал его как факт, как реальность, хотя допускающую самые разные суеверия, толки, подходы, но неоспоримую и неизбежную в самом своем бытии. Отражение было, хотелось людям этого или нет. В другом месте надо будет примериться к их тогдашним, доисторическим мыслям и чувствам на сию волнующую тему: что такое отражение? Пока же примем за аксиому, что отражение в воде и отражение в зеркале, с позиций литературы или живописи, — одно и то же, что так обстоит дело сегодня и так оно обстояло вчера, а конкретнее — в те времена, когда Овидий слагал свои «Метаморфозы». И станем рассуждать об оптических эффектах, описываемых у Овидия, как если бы они производились зеркалом.
Конечно же, имеется в виду печальная судьба Нарцисса. Всем памятны ее перипетии, и все-таки приникнем к первоисточнику — чтоб ни один нюанс не пропал:
Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!
Воду он пьет, а меж тем — захвачен лица красотою.
Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.
Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен.
Чуть позже повествовательное напряжение возрастает:
Жаждет безумный себя, хвалимый, он же хвалящий…
А еще позже достигает трагического предела:
Что увидал — не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
О, легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись — и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, — отраженный лишь образ, и только.
В ней ничего своего: с тобою пришла, пребывает,
Вместе с тобой и уйдет, если уйти ты способен.
Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут
С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
Взором несытым смотреть продолжает на лживый он образ,
Сам от своих погибает очей…
Всего Нарциссу отведено в «Метаморфозах» чуть более ста строк текста того патетического гекзаметра, который возводит в ранг высокой литературы приключенческую сказку, жадно принимаемую — с разинутым ртом и дрожью нетерпения — самым невзыскательным слушателем; тем, кому бы только узнать событийную последовательность, только проследить за мельканием превратностей жизни — и за их развязкой. Если развязка будет содержать некий урок — что ж, он пригодится. А не будет — тоже ладно, ведь главное в сказке вовсе не уроки.
Но в истории Нарцисса содержится гораздо больше философского смысла и литературной изощренности, чем в «средней» сказке, — и соответственно больше потаенного, сокровенного, чем принято замечать на страницах популярных переложений и общедоступных комментариев. Обращусь за поддержкой к Овидию иначе мои слова прозвучат пустой риторикой: то, что воспринимается сызмальства как сказка, трудно выдать самому себе — а пс сторонним тем более — за притчу или трактат:
Даже и после — уже в обиталище принят Аида
В воды он Стикса смотрел на себя…
Здесь возникает самопроизвольная ирония, несвойственная сказке. Финал сказки категоричен, как приговор. Наказание бесповоротно, но оно и единично. Дважды за один проступок, за один грех, за одно преступление не отвечают. А Нарцисс у Овидия оказывается жертвой сюжетной инерции и инверсии. Расплатившись с карательными органами жизнью, он и после смерти пускай даже условной смерти греческого мифа — остается в сюжете.
Как безмолвный назидательный реквизит? Нет, прежде всего как объект насмешки: над ним ядовито подтрунивают, над ним издеваются, тем самым затевая диалог с покойником. Но ведь эти разговоры в царстве мертвых вершат контрабандою величайшее (и по своей сути изо всех самое главное) художественное чудо: ушедшие навеки — возвращаются, погибшие — оживают. Нарцисс умер, но Нарцисс живет. Он живет под личиной цветка — нарцисса. Но он живет и под эгидой большой буквы, в виде имени — и в виде личности.
Смотреть на себя в воды Стикса? Если это просто фраза, упражнение в красноречии — саркастический эффект, получаемый в результате, убийствен. Но если это поступок, то такой, что его не стыдно назвать деянием. Если это поступок, Нарцисс поднимается, возвышается, стряхивая с себя иронию, как святой — гримасы соблазна, как красавица — брызги грязи. Ибо теперь его каприз приобретает то упрямое постоянство, название коему дадут лишь последующие века: Личность.
Невелика заслуга возлюбить самого себя, аки ближнего своего. Куда героичней обратное. И, чтобы научиться этому обратному, надо начать с себя. Начало должно состоять именно в решимости посмотреть на собственное отражение (понимая, конечно, метафорический смысл этой зеркальной субстанции). Нарцисс узрел Нарцисса. Разве в данном происшествии не отозвалась эхом сентенция Сократа: познай самого себя? Но, как утверждает другая сентенция: плод познания горек. И Нарциссу дано испытать эту истину на себе.
Сюжетные тайны истории Стиксом не исчерпываются. Стикс — это эпилог. Стикс — за чертою развязки. Но маленькая эпопея Нарцисса имеет еще и пролог. Герой был мальчиком, когда в него влюбилась нимфа Эхо. Нарцисс остался равнодушен к нимфе. Он, как выразились бы беллетристы последующих веков, холодно отверг ее посягательства. Тогда нимфа
Скрылась в лесу, и никто в горах уж ее не встречает,
Слышат же все; лишь звук живым у нее сохранился.
В контексте поэмы эпизод этот малозаметен; произносимый на одном дыхании, он едва задевает восприятие. Но именно здесь расположен центр художественного замысла, именно здесь — та Архимедова точка опоры, без которой не было бы последующего действия, оно попросту утратило бы смысл.