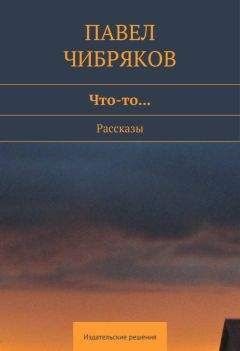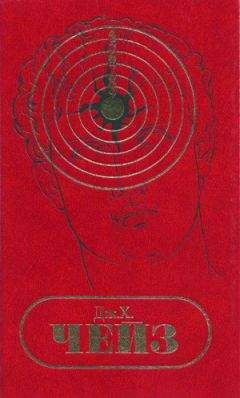Лев Пирогов - Хочу быть бедным (сборник)
Ещё о маргиналах писал Довлатов. О нормальных таких советских маргиналах, этнически и социально перемещённых и перемешанных. Из интеллигентской семьи – в зону, из зоны – в Дом литераторов, из Дома литераторов – в деревенскую избу, из советской газеты в антисоветскую эмиграцию – и везде чужой, нигде не на месте.
И Шукшин о маргиналах писал. У него, в отличие от Довлатова, маргинальное пограничье было не привычным фоном, а центральной проблемой, требующей мучительного решения. Между деревней и городом, между пейзажем и натюрмортом, между слёзным и смеховым… Неправда, кстати, что слёзы и смех смешиваются. Грош цена была бы такому смеху и таким слезам. Нет, они не смешиваются, но чередуются в чистом виде. А наше дело – выбирать требуемое.
Главный маргинал Довлатова – это он сам. «Авторская маска», «наррататор», «эксплицитный рассказчик» – прокладка между рулём и сиденьем. Подозреваю, что о сложных взаимоотношениях Довлатова-автора и Довлатова-персонажа написаны миллионы книг. Однако если их очень сильно отжать, останется следующее: Довлатов писал не о людях, а о своём чувствовании этих людей в процессе письма. Поэтому читателя восхищают не столько наблюдаемые объекты (ситуации и характеры), сколько наблюдательность наблюдателя. И в конечном счёте – сам наблюдатель. Отсюда культ Довлатова как лучшего прозаика и человека времён и народов. Культ совершенно незаслуженный, но естественным образом спровоцированный творческим методом Сергея Донатовича. Он сам так искренне и мило (обаятельно, иронично, самокритично, самоубийственно) себя любит, что не разделить с ним его чувство почти невозможно. Читатель не замечает расставленных сетей, полагая, что сам дотумкал, какой же этот «образ автора» обаяшка. Но нет, не сам.
У Шукшина всё наоборот. Автора в рассказах почти не видно, как режиссёра в кадре. Изредка проскочит нервная, на грани блатной истерики, интонация (лучше всего знакомая нам по Егору Прокудину из «Калины красной»), и всё, пожалуй. Больше об авторе, каков он, плох или хорош, сказать нечего. Зато интонация эта (часто раздражающая – не то блатная, не то жлобская) возникает периодически. И всегда в одинаковых ситуациях. Когда шукшинский герой (а вместе с ним сам Шукшин) не может защитить своей правды. Когда его не понимают (не любят). Когда он сам в себе не уверен. Был уверен, а от чужого непонимания вроде как истончается, тает…
Вспоминается статья Бродского, использованная впоследствии в качестве предисловия к первому довлатовскому трёхтомнику. Речь в ней шла о том, что советские интеллигенты были куда более рьяными индивидуалистами, чем даже американцы, и что Довлатов сумел как никто другой выразить эту индивидуалистическую картину мира. Возможно, именно с той статьи, с этого её тезиса началась раскрутка довлатовского культа в освобождённой от пут коммунофашистского коллективизма России – сочли полезным.
Так вот, индивидуалисту не опасны «Другие», даже когда он, кокетничая, называет их «адом». За прочными бастионами шизоидного сознания индивидуалист делает с «Другими» что хочет. «Текст» лечит его от слабости. От страха своего несуществования, своей несущественности, своего бессилия перед «Другими».
А неиндивидуалиста?..
Боль несуществования (несущественности) очень характерна для героев Шукшина. И они не бегут от неё. Их правда не желает быть в резервации раздутого до размеров вселенной «я». Она хочет достучаться, доковыряться до других. Уже без кавычек, потому что шукшинские другие, в отличие от довлатовских, реальны.
Нельзя сказать, что шукшинский герой себя не любит. Скорее он не помнит себя. Поэтому, не задумываясь, испытывает себя на излом, раз за разом подвергает себя сомнению, лезет на стену. В этом его коренное отличие от стремящегося к онтологической определённости героя Довлатова.
Существуют ли «Другие» сами по себе? Если да, то налагает ли их существование на меня какую-либо ответственность? Проще говоря – должен ли я с этим считаться? Если должен, то означает ли это, что «Другие» существуют уже не сами по себе, а со мною, во мне или за счет меня? Если да, то налагает ли это на них какую-либо ответственность? Если да, то возможно ли тогда вообще говорить о «Других»?
Существует ли зазор между нравственностью и творческим методом?
Между «идеей человека» и жанром, между авторской и личной позицией?
Довлатов сочувствует своим персонажам, но не любит их. Можно сострадать замерзающему нищему или больной собаке, можно даже что-то сделать для них – всё равно они останутся снаружи, вовне, за тонкой плёнкой вашей самости. Не «превратятся» в вас. Другое дело, если обнаруженная на улице замерзающая лишайная собака – это ваша потерянная месяц назад любимица. Или представьте себе скрючившимся на автобусной остановке человека, которого вы тихо и безответно любили всю свою жизнь. На несколько лет пропал из виду, думали уехал, а теперь – вот, сидит. Грязный, умирающий и, кажется, порядком вонючий.
Самое ужасное, что из этой ситуации существует миллион выходов. Например, заплакать и пойти напиться (повеситься). Или, прикрывая лицо, принести термос с горячим чаем. Или забрать домой, выходить, женить на себе. Или продать квартиру, чтобы оплатить его карточный долг чести или что там. В конце концов каждый из нас поступит определённым образом. Это и будет наш «творческий метод», наша «идея человека», наш жанр, наша позиция.
Одно кажется совершенно точным: без любви невозможна «предельная ситуация». Когда не отступиться. Либо любовь – либо предательство. Пройти мимо чужого нищего – не предательство, раз нет любви. Так вот, у Довлатова таких предельных ситуаций-то и нет. Он просто не допускает их. Он всегда, в любой ситуации принадлежит себе, своей «трезвой памяти». Его герою можно, прикрываясь депрессией, бросить жену и ребенка, а потом снова вернуться к ним. Центр всё равно будет не там, не в этом поступке, а в страдающей и самостоятельно казнящей себя душе героя. Герой совершенен. А жена и ребёнок – хрен осенью. На крайний случай у героя есть самоирония.
…Давайте вообразим, как Довлатов написал бы шукшинский рассказ «Раскас». Вполне довлатовская заготовка сюжета, в духе «коммунисты нашей фермы выбрали меня своим членом». От шоферюги Ивана Петина ушла жена. Он излил душу на бумаге, назвал эту корявую исповедь «раскас» и принёс в редакцию районной газеты. «Чтоб она прочитала». Бедняга редактор силится объяснить Ивану, что «так не пишут». Гуманно предлагает помощь: «Давайте вместе, от третьего лица…» Иван машет рукой и направляется прямиком в чайную.
Вероятно, Довлатов посадил бы на место гуманиста-журналюги себя. И тогда пафос рассказа получился бы такой: сострадательная ирония. Дескать, ну что поделаешь… Печальный мир, даже когда цветёт вишня! А за этим неизбежно маячит: «Уржаться». Чем лучше тонко чувствующий герой Довлатова понимает и «прочитывает» Ивана, тем меньше остаётся самого Ивана как живой и тоже чувствующей мир личности. «Объективирование субъекта».
У Шукшина по-другому. Его комические персонажи не смешны, романтические не серьёзны. Сопереживая «молодому Ваганову», нельзя не замечать его наивности, неуклюжего самодовольства, сочувствуя «чуткому» Алёше Бесконвойному, нельзя не сочувствовать и его «нечуткой» жене. То есть мы сочувствуем и Алёше, и его жене – за то, что сами-то они друг друга не понимают, не справляются с этим без нас, чтобы понять их и примирить – живые мы нужны.
Тут можно вспомнить Бахтина с его диалогом, осуществляющемся при посредничестве свидетеля-«третьего», но хочется сказать совсем про другое. Про какой-то надлитературный смысл того, что человек – это когда много людей. Ну вот переправа через Днепр, Вторая мировая война. Эти кадры часто показывают в кинохронике. Густо вспухает взрывами вода, люди на плотах, кажется, обречены. А всё гребут, всё плывут куда-то, где их поджидает не эта, так какая-нибудь другая смерть. Зачем?
Ни за чем. Все побежали, и я побежал. «Так надо было».
Один человек думает и поступает не так, как много людей. Одному быть красиво, потому что никто не истолкует твою грусть-тоску некрасиво, неправильно, в душу не плюнет, не посмеётся. Но когда плохо, нужно идти к людям, а то станет ещё хуже. Бог есть. Россия – наше Отечество.
Вот вокруг этого как-то оно вертится.
Книга о любви к родине
Зайца можно научить курить, а человека – писать. Получается выдувать дым – вот и молодец, «хорошая проза». Когда-то говорили – «произведение». Потом стали говорить – «текст». Теперь – «проза». Произведение – это поступок. Текст – вещь. Проза – способ.
Что такое «русская классическая литература»? На первый взгляд – нормативно-оценочное понятие. Сумма произведений, созданных в определённое время и максимально высоко оцененных читателями. Но почему в корпус русской классики не вошли, например, горячо любимые современниками повести Бестужева-Марлинского или романы Арцыбашева? Почему никогда не станут классиками русской литературы Сорокин или Пелевин?