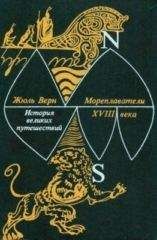Антуан де Сент-Экзюпери - Смысл жизни
«У меня дочке двадцать лет, мадемуазель, — Вы не согласитесь давать ей уроки?»
И мадемуазель Ксавье, прижав к сердцу перину, отвечала с сокрушительным достоинством:
«Вы меня арестовали. Теперь — судите. Если я останусь жива, завтра мы поговорим о Вашей дочери!»
А сегодня она добавляет, сверкнув глазами: — Они не смели на меня взглянуть от стыда!
И я уважаю эти восхитительные иллюзии. Я говорю себе: человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе. Нужно обладать определенной широтой личности, чтобы почувствовать высокий накал обстановки и уловить, что он означает.
Мне вспоминается рассказ жены одного моего знакомого. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу. Суденышко было забито до отказа, любой дополнительный груз потопил бы его. Оно медленно отходило от причала; трещина пролегла между двумя мирами — узкая, но уже непреодолимая. Стиснутая толпой на корме, молодая женщина смотрела назад. Разгромленные казаки вот уже два дня как хлынули с гор к морю, и поток их не иссякал. Но кораблей больше не было. Доскакав до причала, казаки спрыгивали с коней, перерезали им глотки, скидывали бурку и оружие и бросались вплавь к спасительному борту, столь близкому еще. Но с кормы по ним стреляли из карабинов. С каждым выстрелом на воде вспыхивала красная звезда. Скоро вся бухта была расцвечена этими звездами. Но лавины казаков, упорные, как в дурном сне, все выносились на причал, все резали глотки коням, все прыгали в воду и плыли до новой красной звезды…
А мадемуазель Ксавье нынче устраивает вечеринку — с десятью такими же французскими старушками, у той из них, чье жилье краше. Это прелестная маленькая квартира, вся расписанная хозяйкой. Я добыл для них портвейна и ликеров. Мы все чуточку захмелели и поем старинные песни. У старушек их детство встает перед глазами, они плачут, в душе им снова по двадцать лет (ведь они называют меня не иначе как «мой дружок»!). Я словно прекрасный принц, опьяненный славой и водкой, среди обнимающих меня маленьких старушек!
Появляется бесконечно важный господин. Это соперник. Он приходит сюда каждый вечер выпить чаю, отведать печенья, поговорить по-французски. Но сегодня он присаживается к уголку стола, суровый и полный горечи.
Однако старушки хотят показать мне его в полном блеске.
«Это русский, — говорят они, — и знаете ли, что он сделал?»
Я не знаю. Пробую догадаться. Новый гость напускает на себя все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Это скромность большого барина. Но старушки окружают его, торопят:
«Ну же, расскажите нашему французу, что Вы делали в девятьсот шестом!»
Мой соперник играет цепочкой от часов, заставляя наших дам изнывать. Наконец он уступает, поворачивается ко мне и небрежно роняет, выделяя, впрочем, каждое слово:
— В девятьсот шестом я играл в рулетку в Монте-Карло.
И старушки, торжествуя, хлопают в ладоши.
Час ночи, пора и возвращаться. Мне устраивают пышные проводы. Я иду к такси, окруженный маленькими старушками. На каждой руке по старушке. Не слишком крепко стоящей на ногах. Сегодня я у них за дуэнью.
Мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо:
— В будущем году моя очередь получать квартиру, и мы все соберемся у меня! Вот увидите, как там будет мило! Я уже вышиваю салфетки.
Она тянется еще ближе к моему уху:
— Вы навестите меня раньше, чем остальных. Я буду первая, правда?
Мадемуазель Ксавье через год исполнится всего семьдесят три. У нее будет своя квартира. Она наконец начнет жить…
ИСПАНИЯ В КРОВИ
В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны
Миновав Лион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них — широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу как бы на дне колодца.
Я один на борту, я смотрю вниз и вспоминаю. Здесь я жил несколько месяцев. В то время я испытывал гидросамолеты в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. После работы я возвращался в центр этого всегда по-воскресному праздного городка. Просторная площадь, кафе с оркестром, вечерний портвейн. Я сидел в плетеном кресле, а передо мной текла провинциальная жизнь. Она казалась мне такой же безобидной игрой, как игра в оловянных солдатиков. Принаряженные девушки, беспечные прохожие, безоблачное небо.
Вот и Пиренеи. Последний благополучный город остался позади. Вот Испания и Фигерас. Здесь люди убивают друг друга. Я бы не удивился, если бы обнаружил пожар, развалины, признаки человеческих бедствий: удивительно то, что ничего подобного здесь не видно. Город как город. Всматриваюсь: никаких следов на этой легкой кучке белого гравия. Церковь — мне это известно — сгорела, а она блестит на солнце. Я не вижу ее непоправимых увечий. Уже рассеялся бледный дым, унесший ее позолоту, растворивший в небесной синеве ее резной алтарь, ее молитвенники, ее утварь. Ни одна линия не нарушена. Да, город как город. Он сидит в центре расходящихся веером дорог, словно паук посреди своей шелковой сети. Как и другие города, он питается плодами долины, которые поступают к нему по белым дорогам. И передо мною только этот образ медленного всасывания пищи, которое на протяжении веков определило лицо земли, свело леса, размежевало пашни, протянуло эти дороги-пищеводы. Ее лицо никогда больше не изменится. Оно уже состарилось. И я думаю, что достаточно построить для пчелиного роя улей среди цветов, он раз и навсегда обретает мир. А вот человеческому рою покой не дарован.
Где же трагедия? Ее еще придется поискать. Ведь чаще всего она разыгрывается не на поверхности, но в человеческих душах. Даже в этом мирном Перпиньяне на больничной койке мечется страдающий раком, пытаясь ускользнуть от боли, как от безжалостного коршуна. И в городе уже нет покоя. Таково чудесное свойство человеческой природы: любое страдание, любая страсть излучаются вовне и обретают всеобщее значение.
На каком бы чердаке человека ни снедал огонь желания, пламя его охватывает весь мир.
Вот наконец Херона, затем Барселона, и я потихоньку скольжу с высоты моей обсерватории. Но и здесь я не замечаю ничего необычного, разве что улицы пусты. И опять разоренные церкви кажутся нетронутыми. Угадываю вдали чуть заметный дымок. Может, это один из тех признаков, что я искал? Свидетельство той самой ненависти, которая так мало разрушила, была так бесшумна и которая, однако, опустошила все? Ведь в этой легчайшей позолоте, уносимой одним дуновением, — вся культура.
Да, с чистым сердцем можно спросить: «Где же террор в Барселоне? Где же этот испепеленный город, если сгорело каких-нибудь два десятка зданий? Где массовые убийства, если расстреляно всего несколько сотен из миллиона двухсот тысяч жителей?… Где же этот кровавый рубеж, за которым начинают стрелять?…»
Я и в самом деле видел мирные толпы гуляющих по Рамбла, а если мне и попадался вооруженный патруль, одной улыбки часто бывало достаточно, чтобы пройти дальше. Линии фронта с первого взгляда я так и не увидел. В гражданской войне линия фронта невидима, она проходит через сердце человека…
И все-таки в первый же вечер я оказался с нею рядом…
Только я устроился на террасе кафе среди нескольких разомлевших посетителей, как вдруг перед нами возникло четверо вооруженных мужчин. Они разглядывали моего соседа, потом молча навели карабины прямо ему в живот. Струйки пота побежали по его лицу, он встал и медленно поднял отяжелевшие, точно свинцовые руки. Один из патрульных обыскал его, пробежал глазами документы и подал знак следовать за ним. И человек оставил недопитый стакан, последний стакан в своей жизни, и пошел. И его руки, поднятые над головой, казались руками утопающего. «Фашист», — процедила сквозь зубы женщина за моей спиной: только она и осмелилась показать, что видела эту сцену. А недопитый стакан остался на столе свидетельством безумной веры в счастливый случай, в милосердие, в жизнь…
И я смотрел, как удаляется под прицелом карабинов тот, через кого только что в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.
Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне
Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему:
— Сойти с тротуара!
А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую…
Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит:
— Вы что, оглохли?
Восхитительно, не правда ли?