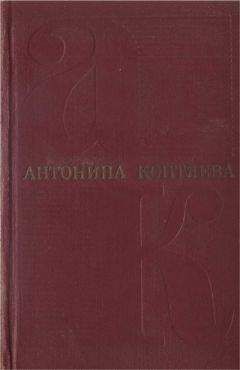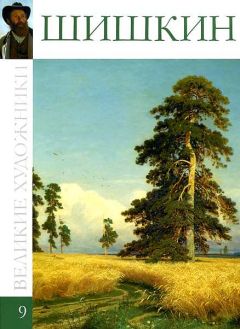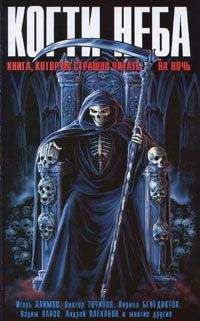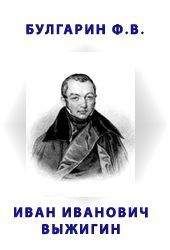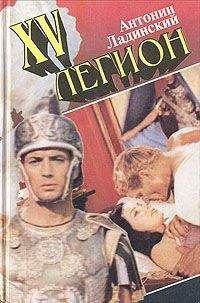Борис Рощин - Встречи
— Что можете сказать о нем?
— Что сказать? — не понял я.
— Ну, то само, порядочный он мужик? Элементарно?
— Порядочный. По крайней мере, я его знаю только таким.
— Счастливо! — повторил Федор Александрович и, резко повернувшись, захромал по лестнице наверх.
3Когда я пишу эти строки, ни Федора Абрамова, ни Антонина Чистякова, увы, уже нет в живых. И если трагическую гибель Антонина Чистякова перенес я как личную утрату близкого человека, то смерть Федора Александровича Абрамова ударила в сердце опустошающе, как невозвратимая утрата для всей русской писательской культуры. Такую боль я испытывал только после смерти Николая Рубцова, Василия Шукшина, Владимира Высоцкого.
В отличие от прозаика Федора Абрамова, имя ленинградского поэта Антонина Чистякова не пользовалось столь широкой известностью. Многие читатели впервые познакомились с Чистяковым, прочитав остропублицистические очерки «Пашня живая и мертвая», «От этих весей Русь пошла…» — все, что успели Федор Абрамов и Антонин Чистяков сделать совместно в публицистике. Вот почему, прежде чем продолжить рассказ о встрече с писателями на лужской земле, хочу я коротко познакомить читателей с Антонином Чистяковым.
Антонин Федорович Чистяков был всего на пять лет младше Федора Александровича Абрамова. Родился он в деревне Сушилово Боровичского района Новгородчины. В деревне Жуково, что в полукилометре от Кончанского-Суворовского и куда намечен наш писательский маршрут, проживала его мать Дарья Степановна. В 1931 году, когда Антонину исполнилось шесть лет, Дарья Степановна умерла. Отец ушел на заработки, оставив малолетнего сына на попечение родственников. Мне довелось немало поколесить по Новгородчине с Антонином Чистяковым, не раз бывал я в его крошечной избенке в деревне Жуково, заночевывали мы с ним и у его старых теток в Боровичах. Помню, его тетя Ната рассказывала о том, как выжил Антонин в те трудные годы. Он приходил на нетвердых еще ножках в дом одной из своих теток, в котором и без него хватало голодных детских ртов, и жил в этом доме два-три месяца. Потом уходил к другой тетке. Его никогда не выгоняли, не намекали на «пора», он всегда уходил сам. Он знал уже, когда надо уходить. Тетя Ната говорила, что именно эта недетская проницательность и понимание жизни ребенком Антонином поражали в ту пору всех ее сестер.
И еще запомнился мне один эпизод из биографии Антонина Чистякова, услышанный от тети Наты. Позднее я слышал о нем от многих родственников Антонина. Это произошло в начале сорок третьего года, накануне прорыва блокады Ленинграда. Семнадцатилетний рядовой Антонин Чистяков, призванный в армию со школьной скамьи, совершив лыжный марш в строю новобранцев по Ладожскому озеру, входил в заснеженный малолюдный Ленинград. И вдруг из встречной колонны изможденных людей кто-то крикнул: «Антонин!» Это был Павел Ефимов, двоюродный брат Чистякова, один из тех его братьев, мать которого привечала Антонина в своем доме в детстве. Не пришедший еще в себя от лыжного перехода, ослепший от света ладожских прожекторов, Антонин Чистяков все же узнал брата. Успел на ходу развязать мешок и бросил в руки Павла буханку хлеба — весь свой многодневный блокадный «НЗ». Потом Павел Ефимов говорил, что та буханка Антонина спасла ему жизнь.
После войны Антонин Чистяков закончил Новгородский педагогический институт, работал учителем в Боровичах и Тосно. Затем окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал в калининской газете «Смена», в «Новгородской правде». В Ленинграде стал жить постоянно с 1969 года.
В разные годы у Антонина Чистякова вышли в свет девять сборников стихов. Первый сборник — «Край мой Новгородский» — появился в 1955 году. Последний — «Твердыни» — вышел в Москве уже посмертно. Что можно сказать о стихах Чистякова? Да и можно ли вообще что-то говорить о стихах? Стихи надо читать. Кому-то они лягут на душу и сердце, кому-то не лягут, на то они и стихи. Доводилось мне видеть плачущих женщин в цехах лужской трикотажной фабрики, где частенько выступал Чистяков и читал свою «Мать», видел я и зевающих студентов на занятиях литературного объединения в Ленинградском университете, где Антонин читал те же стихи.
Мое знакомство с Антонином Чистяковым состоялось в Москве в Литературном институте имени Горького на первой — установочной — сессии заочного отделения, где училась и его жена Наталья. По характеру Антонин Чистяков был исключительно спокойный, выдержанный и тактичный человек. И молчаливый. С ним хорошо было в дороге. Он не мешал разговорами, не мешал наблюдать, размышлять, любоваться. Лишь одна черта в его характере иногда раздражала меня: безответность. С одинаковой бессловесной безответностью сносил он и замечания хмельного швейцара, и брюзжание литературного критика, и нравоучения собственной жены. На любое проявление неудовольствия, направленное против него, Антонин Федорович отвечал всегда философским прерывистым вздохом: «О-хо-хо, хо-хо!»
4В Литературном институте многие свои контрольные и курсовые работы по современной литературе выполнял я по произведениям Федора Абрамова. Творчество этого писателя знал — не побоюсь слова — превосходно. Порой мне казалось, что детство мое прошло не в деревушке Раковичи, что в десяти километрах от Луги, а в деревне Пекашино на берегу красавицы Пинеги. Бывая в своей деревне, я иногда путаю знакомых с детства мужиков и баб с абрамовскими братьями и сестрами. Так похожи мои деревенские и судьбы их на героев абрамовских романов и повестей.
Помнится, написал я и отослал в Литинститут контрольную работу по абрамовской «Пелагее». О «Пелагее» тогда в газетах и журналах появлялось немало статей и рецензий. Многие из них меня не удовлетворяли. Сводились они в основном к тому, что Пелагея едва ли не напрасно прожила свою жизнь — без любви, без радости, приспосабливаясь и угодничая перед такими людьми, как малограмотный ревизор Петр Иванович, который, однако ж, умеет любому задать науку, как задал Пелагее, — насчитать пять тысяч рублей недостачи или не насчитать. Что вся жизнь Пелагеи была подчинена накопительству, тряпкам, которые дочь ее Алька после материной смерти разбазарила за два дня. И в результате, мол, закономерный финал: всеми покинутая Пелагея умирает в пустом доме.
Ох как не согласен я был с подобной односторонней трактовкой сложного образа Пелагеи. Да я ли один?
Как-то в городской нашей лужской библиотеке состоялась читательская конференция по абрамовской «Пелагее». Присутствовал на этой конференции и профессиональный критик из Ленинграда — румяная пухленькая дамочка лет тридцати пяти, вся в белых кружевных оборочках. И при ней здоровенный неопределенных лет товарищ присутствовал, чем-то похожий на нашего заготконторского конюха — возчика Петю Квашню, то ли муж ее, то ли приятель, то ли тоже критик. Много разных мнений по повести Абрамова «Пелагея» высказано было на той конференции читателями и критиком. Критик особенно на Пелагею наскакивала, все простить ей не могла, что та из колхоза на пекарню сбежала. Что ради куска хлеба честь свою женскую в грязь втоптала, мужнюю любовь предала, морально-нравственно себя опустошила.
После выступления критика поднялся из конференц-читательских рядов пожилой мужчина и принялся так говорить:
— Как мы знаем, товарищи, одной из главных задач нашей литературы является: отразить, запечатлеть время, в котором мы живем, нашу действительность. Каждый писатель стремится выполнить эту задачу, но не каждому удается сделать это по разным причинам. Одному таланта не хватает, другому — гражданской и писательской смелости, третий просто-напросто жизни не знает, а порой и знать ее не хочет. Федор Абрамов, на мой взгляд, тот самый писатель, по произведениям которого потомки наши нелегкое и сложное время наше изучать будут, людей его. Тех самых людей, которые войну мировую вынесли и послевоенные годы.
Образ Пелагеи считаю большой удачей автора. Абрамовская Пелагея не ходячий запрограммированный робот, лишенный каких-либо недостатков, а живой человек. Понятно, что война и голодные послевоенные годы, когда на руках у нее зачах первенец, не могли не отметить Пелагею своей печаткой. Хлеб для нее стал символом жизни, благополучия и счастья ее детей. Но символом не только для живота, а и духовным, приносящим радость и удовлетворение. Вот почему, на мой взгляд, так стремилась Пелагея к пекарне, где работать было совсем не легче, чем колхозной дояркой. Ради этой мечты и допустила она до своего тела Олешу-рабочкома. Подчеркиваю: до тела, но не до души, как уверяет здесь молодой критик. Для Пелагеи Олеша был просто грязью, которую она ежедневно месила утром и вечером голыми ногами. И она изгнала эту грязь из своего тела в бане двумя вениками.