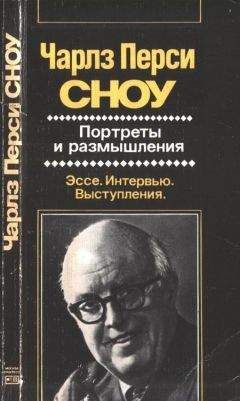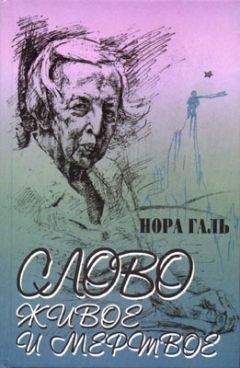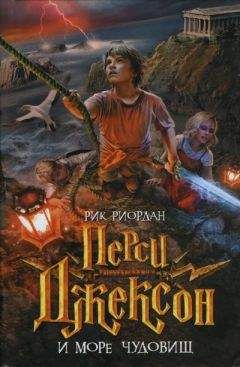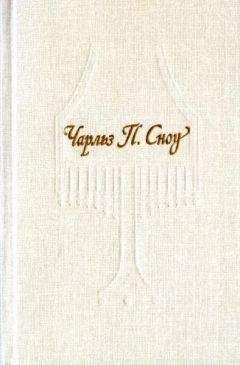Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое
Потому-то, отдавая долг памяти Тютчева, мы вместе с тем отдаем долг и народу, родившему его. Плоть от плоти, кровь от крови своего народа, поэзия Тютчева – подлинно одно из вершинных достижений мирового творчества – показатель духовных возможностей целого народа. И в этом смысле он всегда изначально был народен, по самой природе своего гения, воплотившего в себе символ веры поэта-гражданина: «Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле». Корни поэзии Тютчева уходят в глубины родной земли. Вот почему нет сомнения в том, что недалек тот день, когда слова Толстого «Без Тютчева нельзя жить» – станут живым ощущением, подлинно общенародным сознанием.
1979
Красота правды
Красота – единственная бессмертная вещь…
Я преимущественно реалист и более всего интересуюсь правдою людской…
И. С. ТургеневПожалуй, ни к одному из русских писателей-прозаиков XIX века не подойдет определение певец красоты в такой степени, как к Ивану Сергеевичу Тургеневу. Он умел чувствовать и запечатлевать в художественном слове и красоту природы, и красоту человека. Не внешнюю только, но красоту мысли, идеи, поступка и – прежде всего – чувств, тончайших движений души человеческой. Красоту русской женщины, благородства ее устремлений, идеалов. Это вовсе не значит, что Тургенев обращался только к тем сторонам действительности, которые были так или иначе отмечены печатью красоты. Нет, он не выискивал в жизни исключительные явления, ему незачем было делать это, ибо, по его глубокому убеждению, по его пониманию жизни, отношению к ней, «прекрасное разлито всюду… Но оно нигде не сияет с такой силой, как в человеческой индивидуальности…».
Прекрасное есть жизнь; это не просто умозрительный вывод эстетики Чернышевского, это – одно из важнейших оснований художественного миропонимания всей русской литературы. Творчество Тургенева – только наиболее прямое, наиболее непосредственное проявление этого миропонимания.
Ощущение красоты жизни в ее живой осязаемой трепетности, и особенно молодой жизни, было в высшей степени присуще писателю, который и на склоне лет мог бы сказать о себе слова, сказанные Афанасием Фетом:
Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду.
Художественное миропонимание Тургенева в этом плане и было, пожалуй, наиболее родственно фетовскому. «Красота разлита по всему мирозданию, – писал Фет в статье «О стихотворениях Ф. Тютчева», – и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не созидают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования… Ты видишь ли или чуешь в мире то, что видели или чуяли в ней Фидий, Шекспир, Бетховен? «Нет»… Ступай! ты не Фидий, не Шекспир, не Бетховен, но благодари бога и за то, если тебе дано хотя воспринимать красоту, которую они за тебя подслушали и подсмотрели в природе». В отношении к миру как красоте мысли обоих, как видим, совпадают чуть не дословно.
Но столь же очевидно и существенное различие в их понимании уже самой правды жизни.
В известной статье «Г.-бов и вопрос об искусстве» Достоевский так определял творческую основу поэзии Фета: «Предположим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает… Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса… На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия»… И вдруг – на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья…
…Не знаю наверно, – говорит Достоевский, процитировавший стихи Фета, – как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта… потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города», что бедным лиссабонцам показался бы «слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни».
Но, – добавляет Достоевский, – «поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи», ибо «поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии… принесла, может быть, даже и не малую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения…»
Именно потому, что для Фета – «мир во всех своих частях равно прекрасен, то внешний предметный элемент поэтического творчества безразличен», а потому «художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же математику дороги их очертания или численность». Иными словами – «землетрясения» с их ужасами, по Фету, приходят и уходят, а чувства красоты, любви – вечны, непреходящи, и истинный поэт в любые времена обязан видеть это вечное, творить своим поэтическим словом мир красоты. Потому даже и «лиссабонское землетрясение» может не приниматься в расчет. Поэт может и даже обязан как бы не замечать подобные явления, творить вне их, над ними.
Здесь не время и не место судить, насколько был прав или не прав поэт. В дни «лиссабонских землетрясений» в России Фет, как известно, воспринимался прогрессивным, демократическим читателем как поэт если и не враждебный действительности, то, во всяком случае, не причастный прогрессу. И все же прав Достоевский: сегодня мы «ставим памятник» певцу вечной красоты, сегодня он – с нами, а его поэзия приносит немалую пользу, возбуждая в нас чувство красоты.
Но нас сейчас интересует другое – основание творческого мироотношения Тургенева. Этот певец красоты, исходя из той же, по существу, посылки, что и Фет («Прекрасное разлито всюду»), по природе своего таланта как раз никак не мог обойти вниманием «землетрясения». Напротив, уже по первым его подземным толчкам-предвестникам пытался угадать и воплотить в слове само явление. Так что, пользуясь образом Достоевского, мы можем сказать, что «бедные лиссабонцы» уже в день землетрясения читали бы в своем «Меркурии» романы Тургенева, отвечающие их нуждам в живой насущной злободневности. Об этой особенности таланта Тургенева прекрасно писал Добролюбов: «Мы можем сказать смело, что если уж г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений – это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно поднимается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется ярко перед глазами всех».
Писатель острозлободневный, писатель, непримиримый к главному врагу русской жизни той эпохи, Тургенев, как и большинство писателей – его современников, вступил с ним в бой оружием художественного слова. И это слово русской литературы сломило врага, во всяком случае, решительно способствовало победе над ним. «В моих глазах, – писал позднее Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях» (1868), – враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право».
Крепостное право – это иго, едва ли менее жестокое, нежели татаро-монгольское, – по справедливому замечанию известного мыслителя, декабриста (заочно приговоренного к смертной казни) – Николая Ивановича Тургенева, «было уделом только русского человека». По законам царизма «каждый дворянин, кто бы он ни был по своей национальности – англичанин, француз, немец, итальянец, так же как татарин, армянин, индеец, может иметь крепостных, при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-либо американец прибыл в Россию негром-рабом, то, ступив на русскую почву, невольник станет свободным. Таким образом, – заключает Н.И. Тургенев, – рабство является привилегией лишь русских людей».
Разъясняя европейской общественности значение творчества И.С. Тургенева, его младший друг и в известной мере ученик Мопассан рассказывал о том, что на одном из банкетов в память об отмене крепостного права министр Милютин, «провозглашая тост за Тургенева, сказал ему: «Царь специально поручил мне передать вам, милостивый государь, что одною из причин, более всего побудивших его к освобождению крепостных, была ваша книга «Записки охотника».
Да, мы помним целую галерею помещиков-крепостников, созданную Тургеневым, крепостников, порою даже и утонченно образованных, но все же рассматривающих подвластных им крестьян, составляющих подавляющее большинство нации, как свою «крещеную собственность». Мы помним и впечатляющие фигуры русских мужиков – тех самых, которые ведь совсем недавно спасли Отечество в войне двенадцатого года от нашествия «двунадесят языков», изумив потрясенную Европу величием духа, несгибаемостью нерастраченной мощи, – богатырей, согнутых, подавленных врагом внутренним – крепостничеством. В живых, полнокровных образах Тургенев являл России и миру – во что обращает крепостное право богатырей. Но главная убеждающая сила его художественного оружия была все-таки в ином. Как точно заметил Лев Толстой, существенное значение и достоинство тех же «Записок охотника» прежде всего в том, что Тургенев «сумел в эпоху крепостничества осветить крестьянскую жизнь и оттенить ее поэтические стороны», в том, что он находил в русском простом народе «больше доброго, чем дурного». Да, Тургенев умел видеть красоту души «мужика», и именно эта красота была главным аргументом писателя против безобразия крепостничества. Рассказы и повести Тургенева открывали умам и сердцам современников не только ту сторону рабства, о которой мы уже говорили, – во что оно обращает русского богатыря, но и другую: кого же именно угнетает рабство. Нет, Тургенев не «поэтизировал мужика», не приукрашивал его жизнь, он писал правду о нем. И в этой-то правде, покоившейся на глубокой убежденности писателя в том, что «в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития», – и была главная убеждающая сила произведений писателя.