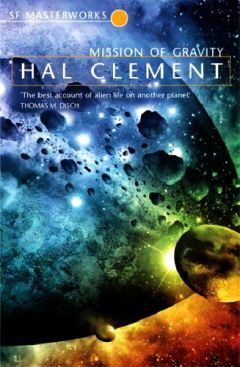Серей Палий - Фантастика 2008
Девушку звали Изабель. Ей было семнадцать лет от роду. Всего этого Никколо до теперешнего мгновения не знал. А того, что в двадцать шесть Изабель зарубит топором взревновавший к соседу супруг, не мог знать и подавно.
— Черт возьми, а я ведь знал, знал, что с тобой что-то не так, — пробормотал Никколо, когда его руки перестали трястись. — И главное, так просто — носил зеркало блестящей стороной к сердцу. И как я мог забыть об этом трюке…
Человек из Зазеркалья кивнул, завязывая узелок на шнурке.
— А что бы вы сделали, мастер? Попытались бежать? — улыбнулся он. Спрятал зеркало за пазуху. В ту же секунду изгибающиеся стены бара обрели резкость, медленно, как набирающая обороты пластинка, заиграла музыка с танцпола, поплыл висевший до этого облаком табачный дым. Человек моргнул, глаза его вновь стали серыми, а сам он — Игорем Черновым. — Вечность не пошла вам на пользу. Вместо искупления вы увязли в еще большем грехе, мастер. Мы долго сомневались, но теперь ваша вина доказана.
— Вина? О чем ты? Я делал все так, как было уговорено, — затараторил Продавец.
— Ложь и сребролюбие, мастер, ложь и сребролюбие, — вынул из пачки последнюю сигарету Игорь. Медленно размял пальцами. Закурил. — Бить фальшивые зеркала, наживаться на несчастных, по незнанию уничтоживших двери в ваш мир, разве об этом мы условились там, в маленькой комнате замка Тур ля Виль?
Продавец нахмурился и метнул взгляд в сторону охраны. Игорь прицокнул и предостерегающе покачал головой. Никколо почувствовал, будто из его тела вынули всю плоть и набили ватой:
— Мне нужны были деньги, — попытался оправдаться он. — Не мне, конечно, конечно, не мне — для моей, нашей миссии! Деньги на истинные зеркала. Работы Лучано стоят теперь дорого, очень дорого, понимаешь?
Игорь лишь пожал плечами и затянулся.
— А как же Кэрролл? — ухватился за последнюю надежду Продавец. — Он ведь тоже заработал на Зазеркалье, однако вы оставили ему жизнь, пусть не вечную, но жизнь!
— Чарльз Доджсон лишь приоткрыл завесу и умер в бедности, — выпустил тугую сизую струю в потолок Игорь. — Кроме того, он сразу же отказался от экспериментов с фотографией после нашей встречи.
Последняя фраза прозвучала так зловеще, что Никколо выпрямился и отстранился.
— И что теперь? — прошептал он.
Спустя три столетия фраза прозвучала иначе.
— Теперь? — переспросил Игорь тем же тоном, что и тогда, в предместье Парижа. — Теперь — все, — просто ответил он и заколотил окурок в пепельницу.
Продавец вздрогнул, вжался в спинку стула. Затравленной крысой огляделся вокруг и вдруг оскалился в лицо Игорю.
— Ложь и сребролюбие, говоришь? Предательство и гордыня? И за это осудили меня те, кто мнит себя абсолютной справедливостью, а на деле — лезет в наш мир и кроит его под себя? — Никколо вцепился в край стола, подался вперед. — Только лишь потому, что им не нравится то, что отражают зеркала? Рвут и топчут судьбы и события, чтобы сделать свою плоскую жизнь насыщеннее, лучше, вкуснее? Так где же ты был, ангел возмездия? — брызгал слюной Продавец. — Где ты был, когда я искал смерти, искал встречи с тобой? Когда я раз за разом резал пальцы об осколки очередного лопнувшего зеркала? Когда искал рецепт? Рылся в фолиантах и жег до смерти каленым железом сначала всех, в ком была хоть толика от семени Ломбарде, а потом и тех, кто просто был с ними рядом?
— Ты не терял времени даром, — сухо ответил Игорь. С воскового лица на Никколо вновь уставились два маленьких зеркальца.
— О да! Я так и не вернул себе дар. Но я узнал многое о вас. И стал готовиться к встрече. — Никколо блеснул в полумраке зубами. Верхняя его губа дрожала, лицо кривилось ненавистью. — Ложь и сребролюбие — мои грехи? И ты явился меня за них покарать? Скажи уж, что тебе просто снова надоело утолять жажду сухарями, так будет честнее! Что? Что ты можешь мне сделать? Молчишь? Если бы вы, великие гости-с-той-стороны-зеркала, могли убить меня, вы не стали бы ждать так долго! Ты пришел бы тогда, когда я начал скупать и уничтожать все, что хоть как-то походило на двери, ведущие из Зазеркалья в наш мир. Ты пришел бы тогда, когда последнего Ломбардо зарыли в землю, и я начал искать тех, кто мог знать о вас и Зазеркалье.
— Или тогда, в январе девяносто восьмого, в Гилфорде, когда ты удавил подушкой Чарльза Лютвиджа Доджсона? Несчастного старика, который нес бредни, вымаливая несколько лишних часов? — Кончики губ на восковой маске выгнулись вверх. — Мы видели каждый твой шаг, мастер. Просто время, отпущенное тебе, тогда еще не вышло. Но теперь, теперь пора сковырнуть цифры, вырвать стрелку и остановить маятник.
Никколо закусил губу, чувствуя, как закололо под сердцем.
— Валяй. — Он с трудом расправил плечи и натужно осклабился. — Сегодня в десять утра, если я не позвоню по нужному номеру, одну нехитрую машинку некому будет остановить. Некому будет замкнуть контакт, и обычный молоток разнесет к чертям вашу волшебную дверь, последнее истинное зеркало мастера Ломбарде, — эти слова дались тяжело: в легких уже не хватало воздуха.
— Глупый, глупый Никколо, — медленно произнес Игорь, вынимая из-за пазухи зеркальце на кожаном шнурке. — Он не боится смерти и хочет побольнее укусить напоследок. — Блестящий прямоугольник опустился на столешницу. — Похвально, мастер, похвально. Но нам не нужны больше зеркала. — Игорь посмотрел в красные от полопавшихся капилляров глаза Продавца. — Профессор Доджсон, балуясь с реактивами в фотолаборатории, открыл нам другой путь. Ты подошел очень близко, мастер Никколо, и той январской ночью мог бы разговорить старика Льюиса. Но вот незадача — вместо него в Гилфорде тебя ждал я. Знаешь, как это паскудно — умирать от удушья, Никколо? — спросил Игорь. Вены на шее Продавца вздулись, на губах выступила пена. Кривой рот хапал воздух, пытаясь протолкнуть хоть толику в легкие. — Знаешь, — удовлетворенно добавил Игорь.
Продавец вздрогнул и грузно повалился ничком. Глухо ударился о стол, опрокинул бокалы, расшиб лицо в кровь. Бурая в приглушенном свете бара жидкость медленно ползла по столешнице, принимая в себя капли расплескавшегося вина.
Игорь наклонился к Никколо и прошептал на ухо:
— Но кое-что ты не учел, мастер. Есть вещи и похуже смерти. Да и двери могут открываться в обе стороны.
В ответ ему раздался приглушенный хрип и бульканье.
Игорь приблизился к стойке, оставил деньги и зашагал по коридору к туалету. Едва он вошел, за дверью послышались топот и крики:
— Стой, мужик! Ну-ка стой!
Мощный удар разворотил, сорвал с петель хлипкий пластик: в уборную ввалилась охрана.
В туалете было пусто. В большом зеркале на стене отражался белый кафель.
— Вовчик! Вовчик! — орал Колян, вытирая кровь с разбитого лица босса. — Чего делать-то?
— «Скорую» вызывай, дура! — на бегу рыкнул Владимир суетящейся и причитающей официантке. — Колян, пульс есть?
Охранник сунул дна пальца под бороду, заелозил по хозяйской шее.
— Бля, нету, кажись! Ментам звонить?
— Да погоди ты! — оборвал его Вовчик. — Вроде дышит, — замер он над раззявленным ртом. — Не разберу, черт! Подай зеркальце, — кивнул он на лежащий на столе сверкающий прямоугольник. Кончик вдетого в него плетеного кожаного шнурка намок в подтекшей крови.
Когда к губам владельца ночного клуба «Версаль» поднесли зеркало, тело его на мгновение выгнулось дугой и обмякло.
Никколо открыл глаза и закричал.
Со всех сторон, насколько хватал глаз, шеренгами приближались к нему мертвецы. В первом ряду шли тысячи отражений Альвизе Раммузио. Они улыбались.
© Л. Сальников, 2007
Наталья Федина
АДЬЕЗ, МАДРИСИТА
I. Однажды
У санитарки глаза лазоревые, в кружеве легких ресниц, на носу — нежные веснушки. Верхняя губа чуть вздернута, но это ее не портит, наоборот, делает еще милей. Барышня-ромашка, девочка-колокольчик. Полевой цветок, незамысловатый, а присмотришься — глаз не отвести.
Новенькая, первый день на работе.
И сама вся такая чистая, светлая, радостная — как весна, нечаянно пришедшая в ноябре. Впрочем, по нашему безумному климату — в самый раз. Весна в ноябре. Весна в захолустной психушке. Хорошенькая санитарка, сияющая юностью, не идет этой облупленной больничной палате. Стены в наскоро замазанных трещинах, окно, заложенное кирпичом так, что даже лучу света не скользнуть контрабандой… Вместо солнца — тусклая лампочка под потолком. Похоже, это первая весна, пришедшая в палату за долгие годы.
— Белье стелить? — радостно спрашивает Весна сопровождающую ее медсестричку. Та постарше, потолще, позлей. Хмурое лицо похоже на розовую когда-то наволочку, застиранную до серости. Неравномерно застиранную: на щеках медсестры цветут лихорадочно-яркие пятна румян.
![Гарри Гаррисон - Билл — герой Галактики на планете Бутылочных мозгов [на планете закупоренных мозгов]](/uploads/posts/books/144947/144947.jpg)