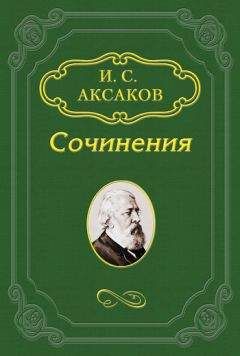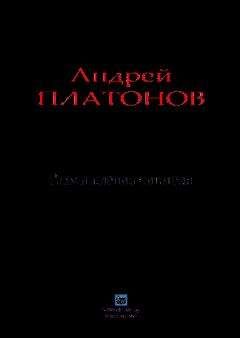Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования)
Он, воюя,
Как олдермен - мозги, кровь обожал парную.
Любой обозный ждал, в волненье чуть дыша,
Когда же грабежом украсится атака?
И все лишь потому, что старичок чудной,
В рубашку нарядясь, решил вести их в бой.
Тут повернулся он и русским языком,
Весьма классическим, вновь начал в грудь солдата
Вдувать желанье битв, венчанных грабежом.
Суворов в этот час, вновь командиром взводным,
В рубашке, сняв мундир, калмыков обучал,
Их совершенствуя в искусстве благородном
Убийства. Он острил, дурачился, кричал
На рохль и увальней. Философом природным,
От грязи - глины он людской не отличал
И максиму внушал, что смерть на поле боя,
Подобно пенсии, должна манить героя.
...А русский острячок
Средь пепла, как Нерон, сумел сложить стишок!
...по вкусу ей (Екатерине. - И. К.) стишок пришелся глупый
Суворова, что смог в коротенький куплет
Вложить известие, что где-то грудой трупы
Лежат, - чем заменил полдюжины газет.
Затем ей, женщине, приятно было щупы
Сломить у дрожи той, цепляющей хребет,
Когда вообразим убийств разгул кромешный,
Что повод дал вождю для выходки потешной.
Если присмотреться к этим и многим другим аналогичным местам текста, то получается какая-то странная, неприглядная картина. Суворов - это какой-то экзотический "Сьюарру". а отсюда и все прочие его качества: "любовник войны", "двуликая особь", "старичок чудной", "старичок, весьма криклив и скор", "русский острячок", написавший "глупый стишок" или "романс игривого пошиба". А русские солдаты, суворовские чудо-богатыри - это "свирепые солдафоны", "привыкшие убивать и женщин и детей", или "егеря... испуганные превыше всех приличий", или "орлы кутузовские", при штурме Измаила "жавшиеся друг к другу в уголках"...
Люди, не читавшие подлинника, спросят: но, может быть, это так и у Байрона? Нет, даже когда подобно, это не так! А здесь важен каждый оттенок. Есть, например, у Байрона обозный, с замиранием сердца ожидающий "опасности и добычи", или солдаты, жаждущие "денег и завоеваний", но нет "грабежом украшенной атаки", нет солдафонов и трусов егерей и, главное, нет того, чтобы Суворов "вдувал желанье битв, венчанных грабежом". Где у Байрона "убийств разгул кромешный"? Нет у него ни "двуликой особи", ни "парной крови", ни "романса игривого пошиба", ни "острячка", ни "глупого стишка". Что же, оскудели возможности русского языка или нет в нем для характеристики Суворова таких слов, как шутник, балагур, прибаутка?
В ряде мест кое-что переводчиком примышлено. Например, слова о Суворове как об одном из вождей, "что населяли ад героями и в мир несли с любой победой мрак и отчаянье". У Байрона нет ни "мира", ни "любой" победы, ни "мрака и отчаянья", а просто утверждается, что Суворов "повергал в печаль" (завоеванные) провинцию или королевство.
Ряд мест дан переводчиком в произвольной и недопустимой трактовке, например вместо:
And cared as little for his army's loss
(So that their efforts should at length prevail)
или как у Козлова:
Суворов, чтобы выиграть сраженье,
Не пожалел бы армии своей,
у Шенгели стоит:
Он погибать своим предоставлял войскам
(Лишь бы они ему победу одержали).
Это - о полководце, который, ведя солдат в бой, сам делил с ними опасности и под Кинбурном и в Альпах! Что-то непохоже на Суворова.
Переводчиком всюду подчеркнута снисходительная, уничижительная интонация, причем смакуется эстетский, гурманский привкус ложной экзотики, которая к тому же подчеркнута весьма странным в устах Суворова обращением на "вы" ко всем, вплоть до любого солдата.
Байрон ужасается кровавым развалинам Измаила, но общее уважительное отношение к Суворову - не просто случайное чувство поэта, оно закономерно. И в этом Байрон является выразителем современного состояния умов. Для тогдашнего англичанина победитель французов в Италии Суворов мог представляться страшилищем, но уж во всяком случае не объектом насмешек. Тенденция к оскорбительному снижению этого образа характерна скорее не для Байрона, а именно для смертельно перепуганных итальянской кампанией французов.
Сам Г. Шенгели, защищая на совещании переводчиков свою трактовку ряда мест в "Дон-Жуане", подкреплял это ссылками не на текст Байрона, а на французский подстрочный прозаический перевод Бенжамена Лароша. Исходя из этого и многих данных текста, можно предположить, что и в неверной трактовке переводом Г. Шенгели Суворова повинен скорее всего Ларош. Конечно, переводчик, при необходимости, волен привлекать для проверки и подстрочник, но зачем в русском переводе английского поэта оставаться в плену французских представлений и даже идти дальше их в искажении образа Суворова? Г. Шенгели переносит из примечания в текст и хитроумно воспроизводит каламбур о Нее, о Веллингтоне, но совсем не задумывается над тем, чтобы должным образом перевести то, что относится к Суворову.
Г. Шенгели, переводя "Дон-Жуана", читал не только Бенжамена Лароша. Он читал и старый перевод П. Козлова, который, по собственному признанию, все время держал "перед глазами и сверял его строка за строкой". С Козловым Г. Шенгели запальчиво полемизирует в послесловии и азартно соперничает в тексте, как будто цель у него не в том, чтобы передать Байрона, а в том, чтобы перещеголять Козлова.
Перевод Козлова далек от совершенства. Однако, не одобряя "свободы рук", которую Козлов применяет для упрощения своей задачи, нельзя одобрить "свободу рук" в отяжелении подлинника у Шенгели.
Вот вторая строфа VIII песни в переводе Г. Шенгели:
Готово все - огонь и сталь, и люди: в ход
Пустить их, страшные орудья разрушенья,
И армия, как лев из логова, идет,
Напрягши мускулы, на дело истребленья.
Людскою гидрою, ползущей из болот,
Чтоб гибель изрыгать в извилистом движенье,
Скользит, и каждая глава ее - герой;
А срубят, - через миг взамен встает второй.
У Байрона основной образ строфы - это лев, выходящий на охоту из логовища, второй, дополнительный - гидра, мифическое многоголовое чудовище, символ неистребимости.
У Шенгели, который и в данном случае переводит слово за слово, в общем смысл не искажен, но гидра вползает в самую сердцевину строфы и, расположившись там рядом со львом, тем самым ослабляет основной образ.
Как поступает Козлов? Строя строфу в целом, он выдвигает в первую же строку образ льва, а гидру оставляет в самом конце в ее основной функции лишь как образ взаимозаменяемости:
Как вышедший из логовища лев,
Шла армия в безмолвии суровом.
Она ждала (до крепости успев
Добраться незаметно, под покровом
Глубокой тьмы), чтоб пушек грозный рев
Ей подал знак к атаке. Строем новым
Бесстрашно замещая павший строй,
Людская гидра вступит в смертный бой.
А ведь строфа с гидрой - не худшая у Шенгели, это не из того множества строф его перевода, где просто непонятно, о чем идет речь, - тут хотя бы все слова Байрона переведены довольно благополучно. И все же, как и в ряде других случаев, это оказывается мало даже по сравнению с Козловым.
Вместо невразумительного изложения Г. Шенгели того, как
...Довольно коротка
Была депеша та, что к берегам Дуная
Примчалась: князь приказ "взять штурмом Измаил"
Любовнику войны - Суворову - вручил!
(причем неизвестно, какой "князь" "вручает" Суворову приказ или депешу), у Козлова стоит:
Назначен был вождем всех русских сил
Любимец битв и враг интриг и споров
Фельдмаршал, знаменитый князь Суворов.
(с сохранением байроновского Field-marshal, утерянного Шенгели во всем образе).
Вот центральная строфа о Суворове:
Суворов начеку все время был; притом
Учил и наблюдал, приказывал, смеялся.
Шутил и взвешивал, всех убеждая в том,
Что чудом из чудес он не напрасно звался.
Да, полудемоном, героем и шутом,
Молясь, уча, громя и руша, - он являлся
Двуликой особью: он Марс и Мом - один,
А перед штурмом был - в мундире арлекин.
Здесь кроме чисто грамматической неувязки с падежами и со сказуемым "являлся", которое относится к "полудемону" и к "особи", кроме словесного мусора, вроде "двуликой особи", лишнего "притом" и т. д., важнее всего то, что в рифму, на смысловой удар, выдвинуты "шут" и "арлекин", чего нет у Байрона, и выходит, что Суворов казался чудом, а был арлекином. Козлов выдвигает на рифму слова "герой" и "чудо", а "арлекина" оставляет лишь как сравнение, и вот что у него получается:
Молясь, остря, весь преданный причудам,
То ловкий шут, то демон, то герой,
Суворов был необъяснимым чудом.
За всем следя, он план готовил свой
И ничего не оставлял под спудом.
Как арлекин, носясь перед толпой,
Он мир дивил то шуткой, то погромом,
И был сегодня Марсом, завтра - Момом.
Вместо "грубых тех, свирепых солдафонов, привыкших убивать и женщин и детей", у Козлова - "в солдатах, хоть война их приучила к кровавым схваткам, дрогнули сердца". Вместо "егерей... испуганных превыше всех приличий", находим у Козлова "егерей, расстроенных кровавою борьбою", со старым значением слова "расстроенный", то есть "сломавших строй".