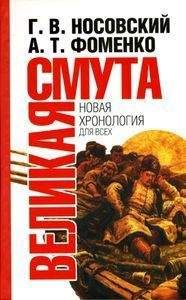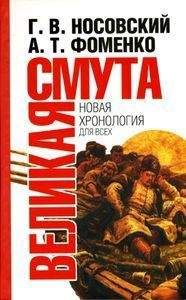Николай Плахотный - Великая смута
Из старых писцовых книг известно, что на левом берегу реки Тихая Сосна, у места впадения в нее Усердца, в 1637 году, по приказу царя Алексея Михайловича был заложен военный городок. Вокруг него, как грибы после дождя, возникли земледельческие слободы. В ту пору армия, что называется, сама себя кормила. Сюда, на окраину Среднерусской возвышенности, стекался вольный крестьянский люд с Вологодчины, из-под Рязани, Твери и Костромы служить царю-батюшке и Отечеству. Где теперь Иловка, обосновались пушкари, народец расторопный, смекалистый. Поближе к реке, на месте села Подсереднего разместились казаки разудалые. На противоположном берегу, в Ильинке заняли позицию стрельцы, то есть обыкновенная пехота.
Ходит по здешней округе радужная легенда. Усердский воевода (по званию полковник) объезжал на ладье сторожевые посты. В тот год Тихая Сосна разлилась необычайно, затопила все низменные места. И воинский начальник во время инспекторской поездки узрел немало недостатков и серьезных упущений. Потому было зело сердит. Словом, пребывал в преотвратном настроении, которое для свиты могло обернуться большими неприятностями.
Вдруг — о, чудо! — чело воеводы посветлело. Среди моря необъятного вырисовался будто сказочный городок, к тому же обитаемый. Селеньице утопало в купах зелени. По краю воды стояли высоченные осокори, что тебе богатыри в карауле. Улыбнулся полковник, аж привстал на ладье, дабы лучше рассмотреть чудную картину. «И ловко же они тут устроились, — молвил он. Потом вновь повторил: — И ловко! И ловко!» Вся дружина вслед тотчас повторила командирские слова. Да так в народ и пошло: Иловка да Иловка.
Есть, однако, и другая версия. Будто название селу пошло от илистого лога, который после вешнего половодья долго не просыхал. Такое вполне возможно. Но первая легенда кажется моим землякам заманчивей, привлекательней. Опять же главное действующее лицо в ней — полковник! А иловцы издавна чтят воинство. «Наши пушкари Расею от турок обороняли», — говорят наши не без гордости. И это уже факт точный, исторический.
Характер трудовой деятельности, — как, впрочем, и соответствующий род войск (точнее, принадлежность к оному) накладывает неизгладимый отпечаток на личность. По версии Миргородского, пушкари всегда дружили с математикой. Значит, при необходимости применяли математические правила к делам житейским, хозяйственным. Кроме того, была им свойственна неторопливость, медлительность. Впрочем, до поры, до времени. Эту свою теорию Миргородский проецировал не только на давних предков, но и на наших современников. Отсюда и следовало: дескать, иловцы по натуре тугодумы, зело тяжелы на подъем.
Помню, районное начальство искоса поглядывало на «музейщика» Миргородского за то, что он как бы оправдывал консервативные настроения пушкарей, которые резко отрицательно относились ко всему новому, передовому. Даже и теперь упрекают моих земляков: они-де медлят с реформированием своего колхоза по новейшей схеме рыночных отношений, которые апробированы во всех цивилизованных странах. Опять вроде бы наши пошли не в ту степь!
Ветераны коллективизации еще помнят, что Иловка считалась очень трудным селом по части обобществления собственных средств производства. Рассказывают, что здесь была весьма мощная прослойка кулачества, едва ль не треть крестьянских хозяйств. Их безжалостно выкорчевали и разметали по белу свету. И все равно коллективизацию в данной местности провели с грехом пополам и позже остальных в Алексеевском районе. Только к 1934-м году.
Но вот жизнь снова дала крутой поворот. Дана была с верхов команда: разбирайте землю по дворам. Пожалуйста, разводи на своем подворье любую скотину и сколько хочешь. Хоть озимых крокодилов, хоть страусов. Ничего и никому не возбраняется. Свобода, значит, полная! Слышно, в других колхозах имущество и скот в один момент растащили по дворам, разбазарили. Потом общественное — бесхозное — добро профукали, прогуляли. Теперь же бедствуют. Локти собственные кусают. И попутно матерят власть.
А в Иловке все еще живут по-старому. О приватизации и разделе колхозной собственности и разговора нет. Я пытался вызвать своих друзей и приятелей на откровенность: почему тянете волынку? Экономист Белоусов ответил уклончиво:
— Нет пока острой необходимости. — Почесав за ухом, добавил: — Наши еще душой, похоже, не созрели. Сам же знаешь — пушкари!
Поди-ка разберись в мужицкой душе. Нет у нее ни дна, ни покрышки. Мы же лезем в нее с казенным аршином. Особенно начальство. Оно ведь всегда шагает в ногу со временем. И даже опережает оное.
Костерок наш почти померк. Месяц скрылся за горизонтом.
— Не пора ль на боковую? — раздался голос Демьянова с командирской ноткой.
Мы все разом поднялись и замерли, словно завороженные. В глухом урочище, среди ночи откуда-то взялась песня. Звучали женские голоса. Но сколько? Не разобрать. То слышался дуэт, то одинокий, соборной чистоты голос. В то же время можно было спорить, что рядом, в лесополосе расположился целый академический хор.
Туман яром,
Туман долиною,
За туманом ничего не видно.
Только видно,
Только видно
Дуба зеленого.
Каждая песенная строка повторялась дважды, но песня от того не проигрывала. Слушать было нескучно.
Егор шагнул в темень, бросив на ходу:
— Что выделывают! Думают, небось, что в целом мире одни.
Под тем дубом
Криница стояла.
В той кринице,
В той крини-и-ице
Девка во-оду бра-а-ала.
Голоса были истинно ангельские. Заранее было жаль, что вот-вот кончится фантастическое чудо, и мы не увидим лиц поющих.
Оказалось, похожие мысли тревожили не только меня. Раздался легкий щелчок, и из фары мотоцикла вырвался ослепительный сноп света. Пение оборвалось на полуноте. Слышался лишь скрип тележных колес.
На освещенную поляну вышли кони, тащившие тяжелый «пульман» — колымагу военного образца, на коих пушкари некогда возили снаряжение и прочие артиллерийские причиндалы. Егор повернул фару, высветив две съежившиеся женские фигуры.
— Ой, не балуйте!
— Мы-то думали, вас там не менее ста душ, — игриво проговорил Иван Михайлович. — Со свадьбы, что ли?
— Кабы со свадьбы, — ответили строго. — С пасеки. Мед вот везем.
В пульмане произошло движение, шепот, звяканье посуды.
— И кто же там еще с тобою, тетя?
— Унучка. Кто ж еще!
— И это вы на пару такую самодеятельность развели?
— Ага. Трудно ль умеючи.
Разговор был легкий, шутейный.
— Танька пристала: «Научи, ба, старым песням». В школе у них кружок сформировался, чтоб песни казацкие сполнять. Так я у них за репетиторшу. А вы, мужики, возьмите на пробу медку. Только что из улья.
Из горячих рук я принял тяжелую трехлитровую банку.
— Куда столько!
— В город повезете.
— Да мы же иловские.
— Гля, соседи значит. И кого же караулите?
— Просто косари.
— Что-то припозднились. Ну да высокой травы вам.
По очереди мы приложились к банке. Мед был еще теплый, духовитый. С кислинкой. С привкусом цветочной перги. Его пьешь и пить хочется.
Наконец мы угомонились. Во второй раз легли.
— А ведь тетка-то — наша родня. Нашей мамки двоюродная сестра. В Глуховке живет. Да в нашей-то местности мы тут, почитай, все свояки. Вишь, в потемках аль с испуга и не признала, — бормотал Егор уже засыпая.
В трудах праведных целый месяц прошел. Но я о том нисколько не жалею.
А мысль: перебраться к своякам в Иловку зудит в голове. И покоя не дает. Может, и правда решиться?
КОЗЕЛ И ОВЦЫ
— Веч-веч-веч! — мягко, ласкательно взывал Колядин в темное чрево кошары. Сгрудившиеся у противоположной стены овцы глядели отрешенно. Будто и не к ним обращались. Бригадир достал из полевой сумки обмусоленный сухарь. Но и приманка не помогла. Отара боялась подвоха. Таскать же баранов силком — намаешься. Ведь впереди была еще та работенка — стрижка.
— Подавай, Пахомыч, своего Инициатора, — хмуро сказал Колядин сидевшему в холодке сторожу. При этом криво усмехнулся.
Инициатор — кличка колхозного козла.
По рассказам, родился он в Мухоудеровке, в семнадцати верстах от села Подсереднего. Жил у дедушки Ильи. Дедок тот вдовствовал, мыкался один-одинешенек. И незаметно перевел всю домашнюю живность. Остались, как в той сказке, кот да козел. От козла, известно, ни шерсти, ни молока, ни мяса. Поначалу-то старый терпел возле себя иждивенца, потом, махнув рукой, отпустил на все четыре стороны.
На воле у бездомного открылся природный талант. Да какой! Стали козла приваживать хозяева, у которых были козы. Тут уж дедушка предъявил на бомжа права собственника. И ему за каждый «случай» кое-что перепадало: не трояк, так пятерочка.