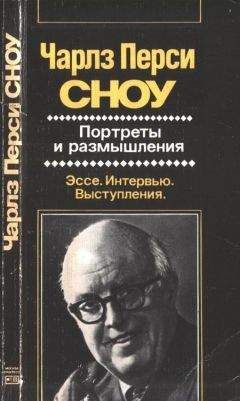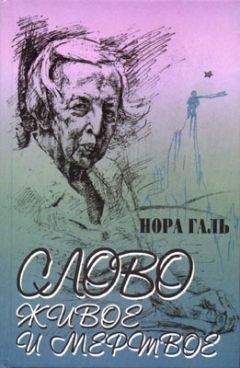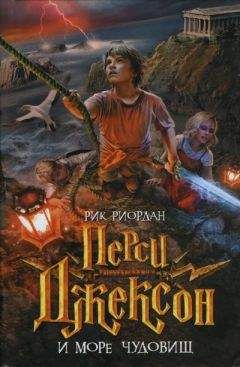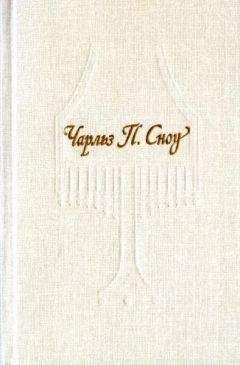Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое
В эпоху Достоевского, как, впрочем, и в предшествующие, как в не меньшей, если даже не в большей, степени – в последующие, перед человеком, человечеством и, естественно, прежде всего перед творческой личностью не мог не возникать соблазнительный, глобально-пессимистический вопрос: а зачем? Зачем искусство, литература – нет, не в качестве украшения жизни, отдохновения, творческой игры воображения и т. д. и т. п., но художественное творчество как высшее и серьезнейшее проявление самой сути человека на земле? – зачем придавать ему столь чрезмерную значимость, если все на земле имеет свою меру, свои сроки; если все конечно – и жизнь даже самого великого из людей, и жизнь целых народов, и даже самое существование Земли – только мгновение бесконечной жизни Вселенной?.. Стало быть, и человеческая мысль, и высшие проявления духовной и творческой деятельности человека и всего человечества – конечны, ограничены в своих возможностях «мгновенностью» человеческого и вообще земного существования. Эсхатологизм подобных вопросов возбуждался и обострялся временами под влиянием то мистических идей о конце мира и грядущем Страшном суде, то – в еще большей мере – научных теорий, вроде неизбежности космической катастрофы от столкновения Земли с каким-либо иным «небесным телом», или приближающейся тепловой смерти Вселенной и т. д. и т. п. Как мы знаем, и наша эпоха не освободила человеческую мысль от подобного рода вопросов; сняв некоторые из тревог прошлого, как фантастические, мистические, ненаучные, она породила новые тревоги и сомнения, уже вполне реальные: от атомных, бактериологических, экологических, геологических – до возможности межгалактических войн и прочих, и прочих, и прочих эсхатологических исходов планетарного, галактического и космического масштаба…
Не может быть сомнений по крайней мере в том, что мысль Достоевского о всемирно-историческом значении душеформирующей миссии литературы давала ответ на подобного рода глобально-эсхатологические вопросы. Ответ этот ясен и прост: в том-то и истинная миссия литературы и искусства, чтобы сделать для человечества неприемлемой самое мысль о возможности любого рода самоистреблении. Но речь у Достоевского идет не только об этом. По существу, он ставит вопрос о значимости литературы и искусства, выходящей за пределы земной истории человечества и даже – за пределы естественного существования самой земли. Можно, конечно, определить подобные идеи Достоевского в категорию мистических и тем и ограничиться. Но, во-первых, мы тем самым не ответим на вопрос, а лишь обойдем его, а во-вторых, пренебрежительно отнесемся к свидетельству гения: «Я вам не представил ни одной мистической идеи». Не посчитаться с подобными заявлениями – значило бы попросту пойти на сознательное искажение идеи Достоевского.
Но обратимся к ней непосредственно: «…и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что о ней заключили?» – то человек мог бы молча подать «Дон-Кихота»: «Вот мое заключение о жизни и – можете ли вы за него осудить меня?» Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но…» Но, добавим от себя, все-таки такие вершины, как «Дон-Кихот», в известной мере, есть, по Достоевскому, «последнее и величайшее слово человеческой мысли» уже не только человечеству же в его историческом развитии, но… Но и всей Вселенной, как это ни покажется фантастично или даже бессмысленно; и не как бы, но именно перед всей Вселенной. Что это значит?
Есть у Достоевского прелюбопытнейший для предмета нашего разговора разбор гётевского «Вертера»: Вертер в последнем своем письме «жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним… Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, отвечает Достоевский, – и это чрезвычайно важно понять, – что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божьих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит с бесконечностью бытия… и что за все счастие чувствовать эту великую мысль, открывающуюся ему: кто он? – он обязан лишь своему лику человеческому».
Законы совести, добра, красоты не относительны, они – едины для всей Вселенной; истина, открытая на Земле, не явится ложью и в любой части Вселенной, идеал красоты везде один; подлость, совершенная на другом конце галактики, не может считаться добродетелью на Земле (вспомните хотя бы «Сон смешного человека»), а потому и значимость откровений человеческой мысли и духа не ограничивается ни пределами земли, ни самого ее существования – вот идея Достоевского.
Конечно, могут спросить: а какой в этой идее, так сказать, практический смысл? Во-первых, как мы знаем, далеко не всякая и великая идея тут же находит себе непосредственное практическое применение. Во-вторых, сегодня уже, в нашу эпоху начала освоения Космоса, поиска собратьев по разуму во Вселенной, в эпоху такого рода естественнонаучных гипотез, как, скажем, теория В.И. Вернадского о научной мысли как планетарном явлении, о ноосфере, созидаемой энергией человеческой культуры, и т. д. и т. и., – думаю, что даже и в сугубо практическом смысле идея Достоевского сегодня уже не носит характер отвлеченный или метафорический. Хотя, конечно, убежден, духовно-нравственная значимость этой идеи далеко не ограничена рамками ее конкретно-практического потребления, пусть даже и в планетарном или же космическом масштабе.
Итак, Вселенная, ее законы, в сути своей, постижимы и постигаются здесь, на Земле. И постигаются не только (а, по Достоевскому, главным образом) и не столько научно-логическим сознанием, сколько художественно-творческой деятельностью, а потому и отражение их нужно видеть не столько в формулах, сколько в образах, и притом реалистических; если, конечно, иметь в виду не фотографический реализм, но реализм в высшем смысле. Но – со своей стороны – великие порывы человеческой мысли в литературе и искусстве, откровения сердца об истине, добре, красоте – и сами участвуют в конечном счете в мировом творчестве, озаряют смысл и суть всего мироздания.
Достоевский-критик – это тип критика – мыслителя и поэта, на материале художественного творчества созидающего мысль о человеке и мире, а через эту мысль – человека и мир.
Ограниченность материалом художественного творчества отнюдь не ограничивала саму мысль критика, ибо художественное творчество и было для Достоевского наиболее прямым отражением существа Мира как вечно творящего и вечно творимого начала.
1980
Мысль чувствующая и живая
Без Тютчева нельзя жить.
Лев ТолстойМного мыслей родил юбилей Федора Ивановича Тютчева у людей, чья душа чувствует сопричастность творчеству нашего великого поэта. Разных, видимо, мыслей. И вопросов. Среди других, быть может, не мне первому пришел вдруг и такой на первый взгляд достаточно праздный вопрос: а почему? Почему мы отмечаем, и именно всенародно, дни рождения великих наших писателей, композиторов, художников? Что кроется в такого рода праздниках?
Да, конечно, сколько лет протекло, сколько бурь, изменивших лицо страны и мира, прогремело на земле, сколько поколений сменилось – а слова Л. Толстого, сказанные им однажды о любимом поэте, не забылись, и более того: может быть, только сегодня и начинают открываться нам своим сокровенным смыслом.
Чем же обязан поэт народу, Родине столь долгой, святой памятью? Чем обязаны они поэту своей благодарностью? Тютчев за свою долгую жизнь (а прожил он семьдесят лет) написал несколько сот стихотворений, да и то, как правило, небольших. Поэмы же, романы, драмы и вовсе не писал. Как поэт Тютчев при жизни никогда ни громкой славой, ни хотя бы широкой известностью не пользовался. Людей, которые могли бы разделить поэтическую оценку, данную Фетом книге стихов Тютчева: «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей», – были буквально единицы. Правда, это были Пушкин, Тургенев, Некрасов, Достоевский, Л. Толстой. Это, как мы понимаем, конечно, далеко еще не народное признание, но заметим в то же время – один из важнейших его залогов.
И все-таки это только стихи. Пусть и прекрасные, пусть относящиеся к высшим достижениям мировой поэзии, многие из которых вошли в наше сознание еще с детства, стали частью нашей духовной жизни: «Люблю грозу в начале мая…», «Еще в полях белеет снег…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…», «Вот бреду я вдоль большой дороги…», «Она сидела на полу…», «Умом Россию не понять…», «О вещая душа моя…», «Нам не дано предугадать…», «Я встретил вас…». Впрочем, так нам пришлось бы перечислить едва ли не все его стихи… И все же…
Все же это только стихи, а не исторические деяния, память о которых хранить завещали нам предки до тех пор, «пока Россия стоит».