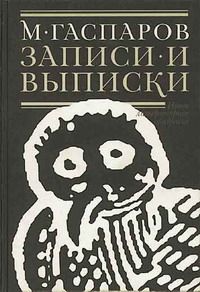Михаил Гаспаров - Записи и выписки
Эколог с Алтая сказал по радио: сам народ сознает экологический кризис и сложил, например, современную экологическую частушку: Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?
Экзигзаг предпочитал говорить в детстве И. С. Ефимов, оттого что трехсложное слово лучше передавало изломанность («Об иск. и худож.», 1977, 68).
Эдип версии его смерти: по FGrH, он был сыном Гелиоса и погиб на поле брани. (А может быть, его убили разбойники? спросил И. О. — Может быть, это у них наследственное?) С. А. говорил, что разноречия в евангелиях лучше всего свидетельствуют об историчности Христа: если бы его выдумывали, то постарались бы свести концы с концами. Ср. ПРОГРЕСС.
«Энтропическая доброта В. Соловьева — как будто он обогревал собою очень большую комнату, в которую мог войти всякий, даже Величко» (Е. Р.).
Экономика Ремизов «народные говоры и допетровскую письменность превратил в колонию, в источник сырья для футуристической промышленности» (Н. Ульянов, ЕжРО, 1990, 277).
Экономика (На редсовете РГГУ). «Две самые высокооплачиваемые женские профессии — путана и печатница; первая дешевеет из-за избыточного предложения, вторая дорожает из-за недостаточного; а начальство этого не понимает и удивляется расходам».
Этажерка Разговор, когда российскую делегацию везли — целым контейнером — на пушкинскую конференцию в Мэдисон: «Вы летали на этажерках? я летала — из Горького в Болдино; перед глазами — ноги пилота, тряска вверх и вниз, сосед сказал: как в телеге по небу едешь». [303]
Эволюция О. Форш рассказывала о докторе Шапиро, который считал: Бога еще нет, есть дьявол, медленно эволюционирующий в Бога (А. Штейнб., 190).
Юмор В одном издательстве меня попросили написать, что я еще переводил: вдруг можно будет переиздать? Увидев в списке «Поэзию вагантов», удивились: «Так у вас есть и чувство юмора?» — «Нет», сказал я: см. ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ. — Б. Усп. сказал: есть языки комические и некомические: комичен английский и китайский, из-за обилия омонимов, и русский, из-за обилия синонимов, русских и церковнославянских; а французский не комичен, он афористичен.
Язычество Поливанов сказал Жолковскому: вы живете в Америке, для вас заборная эротика — экзотическое эстетство («нам, татарам, все равно»), а для нас малоприятная повседневность, поэтому нам она противна. Так каролингские поэты были подозрительны к светлому античному язычеству, потому что рядом с ними было темное саксонское язычество.
Ять Говорят, что готовится конференция по восстановлению этой буквы: некоторые считают, что развал культуры пошел от облегченного образования. Может быть, нужна кампания по возрождению (скажем, 50 %-ной) неграмотности? с восстановлением юсов большого и малого?
Я Илл. Вас. Васильчикова назначили председателем Государственного совета. «Всю ночь не мог заснуть: до чего мы дожили! на такую должность лучше меня никого не нашли» (Соллогуб, 158).
Яйца «Требуют, чтобы мы несли золотые яйца только затем, чтобы нас тотчас резали».
Ясность «Таким образом, этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его недостаточной изученности».
Ясность
Ясно будешь писать — стихи твои лучше не станут,
Будешь писать темно — тоже не станут, учти!
(Рафаэль Альберта)
«Зачем блюду торопиться к ужину?»
(Письма С. Кржижановского) [304]
VI
ВРАТА УЧЕНОСТИ
Первый шедевр в вашей жизни? Что это было? Кто сказал, что это шедевр? Или это собственное — сразу — восприятие? Или титул присвоен позже?
Из анкеты
Вначале было имя. Взрослые разговаривали и упоминали Евгения Онегина, Пиковую Даму, Анну Каренину, Чарли Чаплина, причем ясно было, что это были не их знакомые, а персонажи из другого, тайного их мира, для детей закрытого. Jт вопросов они отмахивались — некогда и слишком сложно. Чтобы проникнуть в их мир, нужно было запомнить и разгадать имена.
Имя Пушкина не произносилось — оно как бы самоподразумевалось. Когда я в пять лет спросил бабушку: «А кто такой Пушкин?», она изумилась: «Как, ты не знаешь Пушкина?» Через месяц я твердил сказки Пушкина наизусть вслух с утра до вечера. А через год началась война. Случилось чудо: в эвакуационном поселке, где вовсе нечего было читать, оказался старый растрепанный однотомник Пушкина. Стихи были непонятны, но завораживающи. Я ходил по бурьянным улицам и пел: «Скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Что это значило, было неважно. Потом я много страдал от этой привычки: из-за звуков ускользал смысл. («И слово только шум, когда фонетика — служанка серафима»). Уже подростком, уже много лет зная наизусть тютчевское «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой», я вдруг понял зрительный смысл этой картины — ночные вспышки безмолвных красных зарниц. Это было почти потрясение.
Мне повезло: в том же дошкольном возрасте мне нанедолго попался в руки другой том Пушкина, из полного собрания, с недописанными набросками: «[Колокольчик небывалый У меня звенит в ушах,] На — — заре алой [Серебрится] снежный прах…» Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно-мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Если бы мне случилось хоть раз увидеть, как художник работает над картиной или рисунком и в какой последовательности из ничего возникает что-то, может быть, я лучше понимал бы искусство.
Я рос в доме, где не было даже «Анны Карениной». Тютчева, Фета, Блока я читал по книгам, взятым у знакомых, почти как урок скажем, по полчаса утром перед школой. Они не давались, но я продолжал искать в них те тайные слова, которые делали их паролем взрослого мира. У знакомых же оказалась Большая советская энциклопедия, первое издание с красными корешками. Там были картинки-репродукции, но странные: угловатые, грязноватые, страшноватые, не похожие на картинки из детских книжек. Взрослые ничего сказать не могли: видно, это был пропуск в какой-то следующий, еще более узкий круг их мира. Статьи «Декадентство» и «Символизм» тоже были непонятны, хотя имен там было много. Некоторые удавалось выследить. Четыре потрясения я помню на этом пути, четыре ощущения «неужели это возможно?!» — Брюсов, Белый (книжечка 1940 г. с главой из «Первого свидания»), Северянин, Хлебников. Брюсова я до сих пор люблю вопреки моде, [305] Северянина не люблю, Хлебников не вмещается ни в какую любовь, — но это уже не важно.
Моя мать прирабатывала перепечаткой на машинке. Для кого-то она, вместо технических рукописей, перепечатывала Цветаеву — оригинал долго лежал у нее на столе. (Как я теперь понимаю, это был список невышедшего сборника 1940 г — бережно переплетенный в ужасающий синий шелк с вышитыми цветочками, как на диванных подушках.) Я его читал и перечитывал: сперва с удивлением и неприязнью, потом все больше привыкая и втягиваясь. Кто такая была Цветаева, я не знал, да и мать, быть может, не знала. Только теперь я понимаю, какая это была удача — прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама (по рыжей книжечке 1928 г.), ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже, как необязательное приложение, ее стихи.
«Вратами своей учености» Ломоносов называл грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого и псалтирь Симеона Полоцкого. Врата нашей детской учености были разными и порой странными: кроссворды (драматург из 8 букв?), викторины с ответами (Фадеев — это «Разгром», а Федин — «Города и годы»), игра «Квартет», в которой нужно было набрать по четыре карточки с названиями четырех произведений одного автора. Для Достоевского это были «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные». Я так и остался при тайном чувстве, что это — главное, а «Братья Карамазовы» — так, с боку припеку. Мне повезло: школьные учебники истории я прочитал еще до школы с ее обязательным отвращением. В разделах мелким шрифтом там шла культура, иногда даже с портретами: Эсхил-Софокл-Еврипид, Вергилий-Гораций-Овидий. Данте-Петрарка-Боккаччо, Леонардо-Микельанджело-Рафаэль («воплотил чарующую красоту материнства», было сказано, чтобы не называть Мадонну), Рабле-Шекспир-Сервантес, Корнель-Расин-Мольер, Ли Бо и Ду Фу. Я запоминал эти имена как заклинания, через них шли пути к миру взрослых. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детская и подростковая субкультура; но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно.
Мы жили в Замоскворечье; Третьяковка, только что из эвакуации, была в четверти часа ходьбы. Я ходил туда каждое воскресенье, знал имена, названия и залы наизусть. Но смотреть картины никто меня не учил — только школьные учебники с заданиями «расскажите, что вы видите на этой картинке». Теперь я понимаю, что даже от таких заданий можно было вести ученика к описательскому искусству Дидро и Фромантена. Потом, взрослым, теряясь в Эрмитаже, я сам давал себе задания в духе «Салонов» Дидро, но было поздно. Краски я воспринимал плохо, у меня сдвинуто цветовое зрение. Улавливать композицию было легче. В книгах о художниках среди расплывчатых эмоциональных фраз попадались беглые, но понятные мне слова, как построена картина, как сбегаются диагонали в композиционный центр или как передается движение. Я выклевывал эти зерна и старался свести обрывки узнанного во что-то связное. Иногда это удавалось. У меня уже были дети, у знакомых были дети, подруга-учительница привозила из провинции свой класс, я водил их по Третьяковке и Музею изобразительных искусств, стараясь говорить о том, что только что перестало быть непонятным мне самому. Меня останавливали: «Вы не экскурсовод!», я отвечал: «Это я со своими знакомыми». Кто-то запоздавший сказал, что старушка-сторожиха в суриковском зале сказала: «Хорошо говорил», я вспоминаю об этом с гордостью. Теперь я забыл все, что знал. [306]