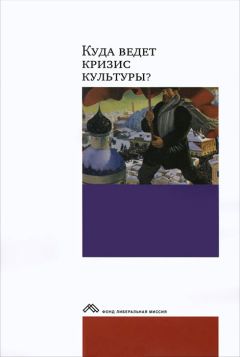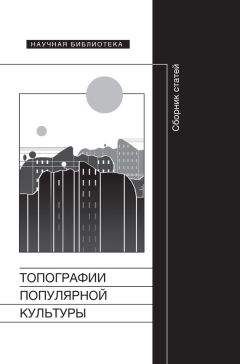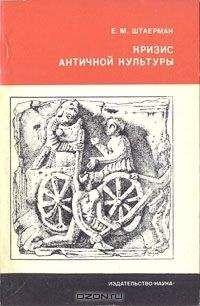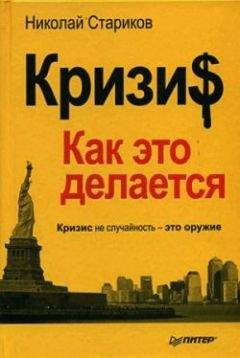Коллектив авторов - Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов
Во-первых, южнокорейская и сингапурская модернизации проводились упомянутыми Алексеем Платоновичем, вслед за докладчиком, «диктатурами развития», т.е. авторитарными методами. И так как развитие имело место, то персонификаторы этих диктатур и в самом деле выступали не как консерваторы, озабоченные сохранением оснований традиционной культуры, а как реформаторы, осуществлявшие «культурное разоружение». Но ведь авторитарная власть, даже пробивающая широкие и глубокие бреши в традиционной культуре, одновременно и сохраняет ее уже в силу традиционной природы самой своей авторитарности. Тут не инновация против традиции действует, а традиция против традиции. Разве не так?
Во-вторых, не очень понятно, какое отношение «диктатуры развития» имеют к современной России. То, что мы в ней сегодня наблюдаем, – это совсем другое. Это пример того, как властная монополия инициировать развитие не в состоянии. И ее репрессивность, комбинируемая с вознаграждениями, – это репрессивность самосохранения, не более того. Алексей Платонович утверждает вроде бы то же самое, но почему-то нынешнее российское «сверхуправление», предрасположенное к перерастанию в «антиуправление», отождествляет с «диктатурами развития»…Игорь Яковенко: Потому что он считает, что кремлевские консерваторы пытаются сочетать русскую репрессивную традицию с инновацией на советский манер…
Алексей Давыдов: Ну да, трубопроводы новые проложат, заводы какие-то, может быть, построют, в Сколково что-то создадут…
Игорь Клямкин:
Понятно. На мой же взгляд, в нынешней России мы имеем дело с инерционным воспроизведением репрессивной традиции, которая с инновацией сегодня не сочетается в принципе. Традиции, которая с правовой модернизирующей репрессией несовместима, однако и потенциала для неправовой модернизирующей репрессивности петровско-сталинского типа не содержит тоже. Но если так, то аналогия с советской эпохой, используемая Алексеем Платоновичем, не выглядит убедительной. Не исключено, что упомянутая им прежняя «дурная цикличность» в российской истории как раз завершается, хотя и непонятно чем.
Однако эти свои соображения я адресую все же не столько Давыдову, сколько нашему сегодняшнему докладчику. Приведенные Алексеем Платоновичем примеры лишний раз свидетельствуют о том, что ссылки на традиционное общество и традиционную культуру сами по себе мало что объясняют, когда речь идет о современных процессах. В том числе и в природе современной репрессивности. Почему-то в Южной Корее и Сингапуре, в культурах которых традиционности уж точно не меньше, чем в культуре российской, репрессивность эта действует в одном направлении, а в России – совсем в другом.
Андрей Анатольевич, теперь вы.Андрей Пелипенко:
«Вопрос о репрессивности культуры неотделим от вопроса о признании ее субъектности в самом прямом значении этого слова»
Мне кажется, что такие понятия, как «репрессия», «насилие» и «принуждение», все-таки находятся в запутанном состоянии. Они выступают то как синонимы, то как пересекающиеся понятия. Скажем, оппозицией вознаграждению будет все-таки принуждение, а не репрессия. На уровне конкретных ситуаций требуется всякий раз более тонкий анализ. Где-то мы имеем дело с поощрением, в каком-то случае – с легитимно поощряемым поведением, в каком-то – с наказанием за неправильное поведение. Например, наказание ребенка в целях воспитания – это репрессия? И вообще, с какого уровня насилия репрессия начинается? Это мое пожелание относительно развития темы на понятийно-терминологическом уровне.Игорь Яковенко: Да, тут еще есть о чем подумать.
Андрей Пелипенко: Сегодняшний наш семинар начался с вопроса Эмиля Паина докладчику о понимании им того, что есть культура. И на нынешнем, и на предыдущих семинарах вопрос этот все время просился быть обсужденным, но мы от него старательно уходили. Однако уйти все равно не удастся. К нему возвращает уже само название нашего семинара, а также то, что несовместимость парадигм его участников неизбежно сказывается на содержании дискуссий…
Игорь Клямкин: Что предлагаете?
Андрей Пелипенко: Я хочу дать свой ответ на вопрос Паина, несколько отойдя от конкретного содержания доклада, но сохраняя связь с темой репрессивности.
Игорь Клямкин: Посмотрим, куда вы нас заведете. Давайте поэкспериментируем.
Андрей Пелипенко:
Культура возникла как системное эволюционное образование. Одной из действующих причин эволюционирования были изменения психики предков человека, в результате которых эта психика стала способной к продуцированию смысла. Все остальное – это уже содержание смыслов. То, что мы называем добром, злом, свободой, несвободой, моралью, религией, этикой… Все содержательные различения внутри смысла – это, соответственно, различения внутри культуры.
Будучи органической самоорганизующейся системой, она проходит имманентные фазы развития – в том числе и кризисные, в ходе которых входит в противоречия сама с собой, будучи вынужденной ломать установленные ею нормы, формы, традиции, ориентиры, свои собственные структуры и перегородки внутри себя.Вадим Межуев: А человеку, его субъектности тут остается место?
Андрей Пелипенко:
Человек является носителем всякой культуры, без него она существовать не может. Если я умозрительно разделяю человека и культуру, то это не значит, что они разделяются эмпирически. Культура живет и развивается через людей, через их страсти, ценности, переживания, устремления.
Репрессивное действие культуры на человека проявляется в двух режимах. Существует фоновое репрессивное давление на него, которое связано с необходимостью специализации человека в соответствии с имманентным генезисом подсистем культуры. Потенциальную свободу человека, множественность его возможных самореализаций, его органический творческий потенциал культура отсекает репрессивно-принудительным образом, превращая человека в носителя некоторого набора социальных функций. Это специализирующий вектор репрессивности. Но он не единственный.
Когда культура входит во внутренний кризис, она должна ломать структуры своих столь бережно взлелеянных подсистем. К примеру, ненависть к чужаку имела место еще у архантропов. И изначально в этих небольших популяциях чужак был объектом охоты и ритуального каннибализма. Но при переходе к более крупным социальным образованиям, которые соответствовали следующей стадии культурно-социальной организации, эти локальные перегородки по линии «свой–чужой» надо было поломать и заменить на более широкие и сложно обусловленные. Здесь культура являет себя в полной мере субъектом, причем субъектом по отношению к человеку опять-таки репрессивным.
В периоды бурных изменений подсистемных и тем более общекультурных конфигураций репрессивность культуры не только резко возрастает количественно, но и становится более адресной, направленной. В такие периоды интенсивность репрессивности подчас подходит вплотную к критическому рубежу и вызывает острые социальные коллизии, иногда подталкивая коллективное сознание к инверсионным скачкам и ритуальному хаосу.Вадим Межуев: Получается, что культура функционирует в некоем сверхчеловеческом качестве…
Андрей Пелипенко:
Есть бесчисленные примеры того, как люди, независимо от их личных психологических свойств и убеждений, разницы в жизненном опыте, интеллектуальном и образовательном уровнях, начинают мыслить и действовать одинаково, выполняя некую непостижимую для них общую задачу. Разве не убеждает все это в наличии целенаправленных манипулятивно-репрессивных действий культуры? Императивность культурных программ, по рукам и ногам опутывающих человека и с легкостью ломающих даже такие базовые природные программы, как, например, инстинкт самосохранения, – тоже явление явно не из мира «человеческого, слишком человеческого». А коллективная «умственная слепота» в кризисные исторические периоды?
Таким образом, вопрос о репрессивности культуры неотделим от вопроса о признании ее субъектности в самом прямом значении этого слова.
Само по себе такое ее понимание отнюдь не является чем-то новым. Хотя тезис о культуре как субъекте не столь часто артикулировался со всей определенностью, в несобственной, замещенной форме он присутствует в значительном корпусе текстов. Я не могу сейчас на них останавливаться, но могу уверенно утверждать, что субъектность и, соответственно, репрессивность культуры раскрывается через широкий дискурсивный круг – от цивилизационных исследований до современной социологии и политологии. В том числе и самой что ни есть прикладной.
Смысловое ядро всех этих концепций тяготеет к пониманию социального (социокультурного) не как механически размноженной человеческой субъектности, а именно как субъектности автономной , системно организованной на надчеловеческом уровне и преследующей свои собственные цели. Но такие концепции в большинстве своем вязнут в трясине стихийного отторжения и психологической инерции антропоцентризма. Их либо не слышат, либо понимают искаженно, либо, понимая адекватно, сознательно игнорируют. Видимо, эта неопределенность и не позволила до сих пор разработать диалектику человеческой и надчеловеческой (в наших понятиях, культурной) субъектности и расставить четкие акценты в этом вопросе.