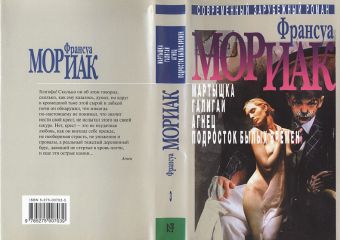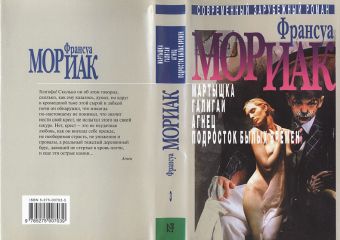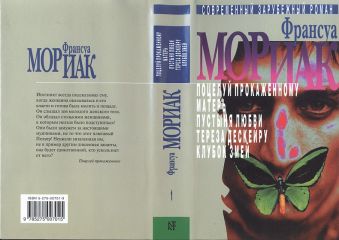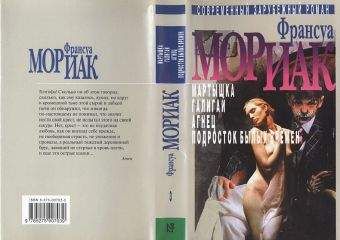Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Нет, отвернемся от них в день нашей победы. Но на примере тех, кто встал на сторону захватчиков, хотя во многих случаях и не думал о предательстве, давайте научимся избегать ловушки, в которую они попали.
Не будем выбирать что-либо одно из наследия Франции. Ведь именно в противоречиях, в великолепном многообразии мы и обретаем возрожденную родину. Каковы бы ни были наши политические и религиозные убеждения, за эти четыре года мы поняли, что любовь к родной стране способна тесно сплотить нацию.
Свобода, равенство, братство... Теперь это для нас не пустая формула, начертанная на правительственных зданиях. Этот девиз вновь облекся плотью: братья, равноправные в своей жертве, отдали жизни за освобождение Франции. Мы этого не забудем. Никогда.
Неисправимые
В эти дни, когда нам разом вернули все: свободу, честь, радость смотреть в глаза людям другого племени, невозможно представить себе, что иные французы тайно злобствуют, что они отводят глаза от этого огромного счастья, и тем не менее это так. Я имею здесь в виду не предателей из пятой колонны, не скрывающихся вишистских жандармов, а добрых малых, которых мы все знали, которые сравнивали Петена с Жанной д'Арк, вешали его фотографию у изголовья, а сегодня, закрыв окна, мрачно вспоминают о чудных вечерах, когда по радио вещал Анрио.
Их осталось, конечно, немного, но больше, чем думают. Даже писатель, романист, который по долгу своей профессии ставит себя на место других, смотрит на французов этого сорта как на непостижимых чудовищ.
Чего же ждут эти несчастные, на что надеются? Если бы политика Монтуара * принесла плоды, если бы сверх ожидания народ Франции не сопротивлялся отраве, лошадиные дозы которой каждый вечер вкатывал ему Анрио, осмелились бы они смотреть людям в глаза так же, как смотрим сегодня мы?
22 июня 1940 года из Лондона пророческий голос де Голля спросил у них: «Никто не может предвидеть, будет ли завтра нейтрален тот, кто нейтрален сегодня, и всегда ли союзники Германии останутся ее союзниками. Если силы свободы одержат наконец верх над силами рабства, какова будет судьба Франции, покорившейся врагам?»
К нацистскому кораблю, который уже дал течь и с которого бегут крысы, пришвартовано французское судно. Потеряно будет все, но в первую очередь — честь. Не об этой ли мерзости вы сожалеете, добрые люди? Так, значит, что? Победа Германии? «Я желаю победы Германии...» * Это желание было действительно высказано министром, ловкость которого вы превозносили, заявляя: «Настал час барышника. Франции нужен изворотливый человек, чтобы вести ее дела и управляться с нею».
Как легок воздух, которым мы дышим под небом Парижа, как чиста, словно вымытая, лазурь, в которой французское знамя похоже на живое крыло невидимого архангела! Но закройте глаза и постарайтесь представить себе, что могло быть: Эльзас и Лотарингия, север Франции, бассейн Брие, равно как Корсика, Савойя, Ницца, Тунис навсегда потеряны... Но нет, недостаточно сказать «все было бы потеряно», потому что захватчики никогда не прекратили бы оккупацию. Ах, как они любили Францию, эти немцы! Как им тут было уютно! Во Франции они катались как сыр в масле. Они никогда не насытились бы: волки всегда голодны.
Если вы сожалеете не об этом, то о чем же? Не о рабском ли государстве, где под прикрытием нацистских танков можно было бы в полной безопасности обделывать свои делишки, лишь бы только это служило Германии? Как просто и удобно жилось в мире, где рабочие, да позволено будет мне так выразиться, ничем не отличались от машин, у которых они стояли! И кроме того, вы испытывали удовлетворение — в нем нельзя было признаваться, но его можно было втихомолку смаковать, — видя, как травят коммунистов, как преследуют евреев. В политике бывает род мщения, которым нельзя пресытиться.
Для подобных французов оккупация была временем эйфории. «Оккупированы и довольны» — вот каков, увы, был их девиз. Они закрывали глаза, не желая замечать, как бледнеет их обескровленный нацистский покровитель. Эти слепцы не видели, как день за днем сбывается пророчество 22 июня 1940 года: «Те же военные обстоятельства, благодаря которым пять тысяч самолетов и шесть тысяч танков разгромили нас, обеспечат нам победу завтра, когда у нас будет двадцать тысяч танков и двадцать тысяч самолетов».
Откроют ли глаза эти последние прихвостни Виши лучам света, в котором купаются искалеченные дворцы на площади Согласия и который озаряет столько молодых лиц на свободных ликующих улицах?
Суд совести
Сумели ли французские журналисты использовать четырехлетнее молчание для того, чтобы «принять решение», как духовные наставники в коллежах учили нас делать это в конце каникул? Или же они, напротив, будут продолжать писать торопливо и беспечно, как во времена, когда все катилось к пропасти?
Разумеется, газетная статья ценится за темперамент, за свежесть реакции, не слишком контролируемой рассудком. Но мы живем в такое время, когда печатное слово накладывает на человека страшную ответственность. Сегодня необдуманность граничит с преступлением. Те из читателей, которые, возможно, будут нами задеты, могут быть уверены, что это не только не доставляет нам удовольствия, но даже причиняет боль. Как прав был Альбер Камю, написав в «Комба», что «политическая реформа толкает самих журналистов на глубокий пересмотр всей журналистики»!
Прежде мы не обращали серьезного внимания на письма с упреками и даже бранью, вызванными нашими статьями. Возможно, они даже приводили нас в некое приятное возбуждение. Но теперь речь идет не о наших настроениях. Мы были действующими лицами и зрителями самой страшной драмы Франции. Этому факту лучше не смотреть в лицо, но это факт: Франция не только не победила, но едва не погибла. Она стала добычей алчного племени, которое никогда не уходило по доброй воле. Оно еще цепляется за нашу землю, его остатки — как гнойники на священном теле страны. Но Франция наконец отвязана от позорного столба, она живет, дышит, и мы видим ее такой, какой она изображена на плакате, который расклеили повсюду в Париже: молодой, со слабым румянцем выздоровления на щеках, но с алыми стигматами на ладонях. В наших изнурительных путешествиях по городу без автомобилей и метро мы как бы прикасаемся дрожащим пальцем к еще не затянувшимся язвам на любимом лице.
Все наши думы о Франции: это она, это ее голос мы узнаем среди стонов и упреков, это он заставляет нас говорить, может быть, слишком пылко, со страстью, которая все время проверяет себя из опасения оказаться не до конца чистой.
Конечно, все, что я написал о Моррасе, можно было бы пригладить, введя кое-какие нюансы и воздав ему должное как писателю, диалектику, полемисту. Но ничто не изменит моего глубочайшего убеждения. Ничем не опровергнешь того, что французский национализм, тот, что назывался «последовательным» и был идеологией довольно значительной части крупной и средней буржуазии, встал на сторону оккупантов и палачей, что все силы этой буржуазии ополчились под вишистским знаменем На Сопротивление, на которое поднялся народ, не желавший умирать.
Кому из врагов национализма в первые годы нашего века и вплоть до 1918 года пришло бы в голову поставить под сомнение его верность родине? Даже «Аксьон франсез» во время войны немало сделала для победы. Что же произошло между 1918 и 1940 годами, между двумя перемириями, перемирием славы и перемирием позора? Мы не станем в короткой статье описывать историю этого поистине люциферова падения, являющуюся в то же время историей моррасовского национализма — мы рассчитываем сделать это в другой раз.
Наша единственная цель — убедить тех, кого мы задели, что нам это не доставило удовольствия. Если раньше писатели могли поддаться соблазну и пустить отравленную стрелу, которая далеко летела и больно ранила, то теперь не время для этих жестоких игр. Мы хотим разобраться в суровой истории последних лет и увлечь за собой читателей, поставив их перед судом совести. Французская буржуазия обязательно должна сделать над собой усилие, отказаться от некоторых своих предубеждений, побороть свои прежние привязанности и антипатии — главным образом и прежде всего для того, чтобы пересмотреть и поставить под сомнение уроки, которые преподали ей Моррас и его школа.
Поразительно, что доктрина моррасовцев ограничила и подавила у большинства из них сильное национальное чувство, которое должно было бы поднять их на сопротивление захватчикам, тогда как у большей части рабочих оно возобладало над интернационализмом, который они исповедовали в теории, и в результате сложилась обстановка, когда родину, брошенную «патриотами», защищали те, кто ее «отрицал».
На этом противоречии нам и хотелось бы остановить внимание читателей, даже если они испытают от этого известную неловкость. Возрождение журналистики, о котором мы мечтаем, предполагает изменение не только ее самой, но и читателей. В недавнем прошлом они каждое утро требовали одобрения своих симпатий и антипатий, маний и пристрастий. Так пусть же они согласятся сегодня на то, что мы будем с ними спорить и даже их задевать. Такой ценой мы общими усилиями создадим живую и полнокровную прессу, в которой будет ощущаться биение пульса возрожденной Франции.