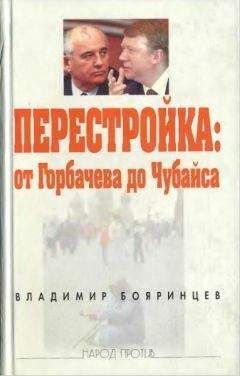Марина Цветаева - Том 5. Книга 2. Статьи, эссе. Переводы
Разочарование и несчастье были правилом всей моей жизни, тогда как у всех остальных они — только случайность.
Друг, вы видели меня смеющейся и играющей и всегда в восторге, ибо я все в мире любила с убийственной страстью, но что-то во мне вечно всего боялось.
Я уже страдала, когда встретилась с вами: так, из-за нескольких неудач и отчасти по привычке.
Я была, как пьяница, заходящий во все кабаки по дороге, но который был пьян, уже выходя из дому. Я родилась пьяной и всю жизнь прожила с жаждой безумия и боли.
Когда я вас встретила, я узнала смертельное и чудесное счастье, я жила в ваших объятиях с непостижимой страстью, слабостью, усталостью и силой. Ни у кого, я думаю, так не сжимались зубы!
Вы любили меня и ушли от меня, потому что это понадобилось вашей жене и сыну.
Вы поступили как нужно: у мужчин есть совесть.
У женщин, дружок, нет совести, у них только ужасающее желание не быть несчастнее, чем возможно.
Если бы вы были здесь, я не смогла бы умереть; видя ваш взгляд и приближаясь к вам, я и без того умираю.
Если бы вы были здесь, вы бы взяли меня за руку и я бы сделала, как вы бы мне сказали, — как в день, когда я вас увидела во второй раз. Вы повели меня в библиотеку и, помогая мне на трудной лестнице, сперва сами того не желая, сжали в открытом, широком рукаве — мою руку. Если бы вы мне после этого сказали: „Бросься в окно!“ — я бы бросилась в окно.
Но вас нет, и я могу рассуждать. Сегодня утром, глядя на себя в зеркало, я увидела, что сделали с моим лицом все эти мучения и слезы: это сплошная тень, каждый уголок унижен.
Страдая и боясь за вас, я бы устала, состарилась, узнала бы эту пытку, которой, слава Богу, теперь уже не узнаю! — пытку уже не смочь дарить вам уверенную в себе красоту.
А иногда, я это чувствовала с опьянением и гордостью, я приносила вам все страны мира и все звезды неба в своих глазах и руках.
И потом, я всегда ощущала в наслаждении только то, что во мне самой. Когда я устала и чувствую свое тело жалким, я не вижу садов и цветов.
Друг, я за последнее время, ходя по улицам, много смотрела на лица женщин. Почти у всех, проходящих мимо, озабоченный лоб, черты, растянутые скукой, — они точно поселились в безразличии. Они не улыбаются и не смеются, даже не верится, что они могут смеяться!
Они ходят, садятся, занимаются, смотрят — с какой-то раздирающей точностью. По каким часам направляют они свои, такие тщетные, дни?
Я не хочу так жить, я не вижу, когда не радуюсь… Еще ребенком я чувствовала, что смирение и тяжесть — не для таких, как я!
И ты бы сам не хотел, мой милый, чтобы та, которую ты взял за ее неистовство, гнев и крики, которая в твоих объятиях была неуловимой и бесконечной, которая так смотрела, так хотела и несла в себе такую бурю, что ее движения и голос меняли цвет неба, — ты бы не хотел видеть ее такой спокойной и послушной.
Мой милый, последняя неделя размягчила мне сердце, сделала меня бедной и слабой. Я умиляюсь и плачу оттого, что напротив меня, на стене, висит моя детская карточка. Я там очень маленькая, лет двух, должно быть. Большие, несколько тяжелые, нежные глаза смотрят прямо перед собой. Я сижу совсем спокойно и терпеливо, точно мне сказали, что сейчас за мной придут. Волосы совсем гладкие, еще немного светлые, спущенные на лоб. Вид у меня очень благоразумный и чего-то ждущий. Голые плечи, в кружевном платьице, еще гнутся, они, наверное, были мягкие и слабые, как тело птицы в руке.
Друг, эти плечи, на которых красовалось по большему пышному голубому банту — такому легкому! — снесли на себе нежное буйство ваших рук, склонивших меня однажды к вашему желанию. Скажите, почему это так больно и почему я плачу о том, что я была маленькая, и такая благоразумная, и такая доверчивая!..
Мой милый, я всего боялась в жизни: грозы, ночи, одиночества и даже, когда еще вся горя, выходила от вас, — зимнего ветра, хватавшего меня на углу, — ах, я думала, что умру от холода!.. А сейчас я спокойно приму этот яд… Вы видите, что сделала со мной эта неделя…
Теперь я хочу думать только о тебе… меня не будет, но будешь ты, и это, единственно, важно: ты будешь зимой в той прекрасной темной комнате, где ты работаешь.
Ты будешь возле горячего камина, перед столом, покрытым книгами и бумагами; на лице твоем и шее будет свет от лампы, у которой фарфоровый розовый абажур и которая, мне казалось, светится только твоим лицом.
Ты будешь там, как в день, когда я в первый раз вошла к тебе.
Ты встал, у тебя был этот восхитительный взгляд куда-то в сторону, который не замечает людей, который, кажется, рассеивается в воздухе так, что все потом в комнате смотрит твоими глазами и горит.
Этот взгляд и какое-то мгновение твоей улыбки, что-то, о чем ты и не подозреваешь, — звук кончающегося смеха и какая-то складка рта, этот смех, который был — ты, и еще, признаюсь тебе, напоминал мне лицо одного человека, слегка смутившего меня в детстве, — твой взгляд и твоя улыбка были больше, чем ты. Вечером, расставшись с тобой, я старалась восстановить их, — и ночью тоже, когда так долго не спалось… И когда внезапно, как дар, сделанный памятью, они вставали передо мной с точнейшей точностью, я чувствовала на своем лице эти двойные биения радости и боли, которые ты любил и которые являются вздохами плоти и крови.
Мой милый, уж скоро полночь, я спокойна, но плачу. Плачу из-за тебя, ибо, хотя ты и господин, а я — такая покорная, — у тебя все же иногда бывали заботы и огорчения, и я тогда клала тебе на голову руки…
Кто положит тебе на голову такие влюбленные руки?..
Но тебя нет, тебя нет, нужно было бы жить без тебя завтра, а я не могу… Вот уже полночь через несколько секунд; ты со мной, я закрываю глаза, ты со мной… Я вижу твои глаза и твой смех, и снова на мне весь запах твоего лица… Я закрыла глаза, ты здесь; ты не веришь, что я, правда, хочу умереть, и говоришь, глядя в сторону: „Какая она глупая!..“, и смеешься, и хватаешь меня обеими руками, и бросаешь к себе на грудь, и в тебе я умираю, и в тебе я умру…»
Первый удар полночи.
<1916>
Из писем Райнер Мария Рильке
Письма к молодому поэту
Париж, 17 февраля 1903 г.
…Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция Ваши попытки отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас все это оставить. Вы смóтрите вовне, а это первое, чего Вы сейчас не должны делать. Никто не может Вам посоветовать и помочь никто. Есть только одно-единственное средство. Уйдите в себя. Испытуйте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы умерли, если бы Вам запретили писать. Это — прежде всего: спросите себя в тишайший час Вашей ночи: должен ли я писать? Доройтесь в себе до глубокого ответа. И если бы этот ответ был да, если бы Вам дано было простым и сильным «должен» ответить на этот насущный вопрос — тогда стройте свою жизнь по этой необходимости; вся Ваша жизнь, вплоть до самого безразличного и скудного ее часа, должна стать знаком и свидетельством этому «должен». Тогда приблизьтесь к природе. Тогда попытайтесь, как первый человек, сказать, что Вы видите и чувствуете и любите и теряете. Не пишите любовных стихов; избегайте для начала слишком ходких и обычных тем: они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила — дать свое там, где уже дано столько хорошего, а частью и блестящего. Поэтому спасайтесь от общих тем к своим личным, поставляемым Вам данным днем Вашей жизни: расскажите свои печали и желания, преходящие мысли и веру во что-нибудь прекрасное — делайте все это с глубокой, тихой, смиренной правдивостью и берите, чтобы высказать себя, вещи Вашего окружения, образы Ваших снов и предметы Ваших воспоминаний. Если Вам Ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя, скажите себе, что Вы недостаточно поэт — вызвать его сокровища; ибо для творящего нет бедности, нет такого бедного безразличного места на земле. И если бы Вы даже были в тюрьме, чьи стены не допускали бы до Вашего слуха ни одного из земных шумов — не оставалось ли бы у Вас еще Вашего детства, этого чудесного королевского сокровища, этой сокровищницы воспоминаний. Туда глядите. Попытайтесь вызвать к жизни затонувшие чувствования тех далеких времен; Ваша личность окрепнет, Ваше одиночество расширится и станет сумеречным жилищем, далеко минуемым всем людским шумом. — И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения — суждение о нем: нет другого. Посему, многоуважаемый N., я бы ничего не посоветовал Вам, кроме: уйти в себя и испытать глубины, питающие Вашу жизнь: у истоков ее Вы найдете ответ на вопрос, должны ли Вы писать. Примите его как прозвучит, вне толкования. Может быть, окажется, что Вы призваны быть поэтом. Тогда примите свою судьбу и несите ее, тяжесть ее и величие, никогда не озираясь на награду, могущую придти извне. Ибо творящий должен быть для себя целым миром и все находить в себе и в природе, с которой он воссоединился…