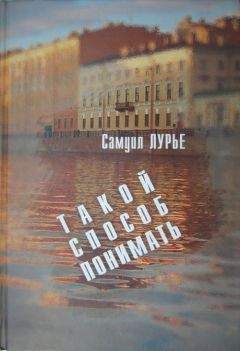Самуил Лурье - Железный бульвар
Когда же в моей сказке дело дошло до изображения танца, я, стыдно сказать, вскочил с места и стал носиться по коридору из комнаты в кухню, чувствуя большое неудобство, так как трудно танцевать и писать одновременно».
Он давно уже был известный литературный критик — впечатлительный, проницательный, с эффектной манерой: разыгрывал чей-нибудь чужой стиль на разные голоса, как маскарад навязчивых идей. Изо всех сил притворялся взрослым, иногда — с удовольствием. Но той литературы, которую он любил, в одночасье не стало. Теперь только старость предстояла ему.
И вдруг — это блаженство: текст ходит ходуном, высвобождая пляшущий голос.
На пятом десятке судьба сказала Корнею Чуковскому, как некогда Некрасову — Белинский: вы — поэт, и поэт истинный.
Был еще «Крокодил» (первая часть — 1916); но он затеян был на случай, доделан на заказ, там в первой части повторяется одна и та же ритмическая фигура: шажок — прыжок, шажок — прыжок — и отскок с поворотом, — а вторая часть пародирует хрестоматию. Были «Мойдодыр» (1921) и «Тараканище» (1922): там движение тоже создается остроумными механизмами, оно прерывисто, и скорость ограничена.
Муха же Цокотуха — вихрь, полет на Брокен, Вальпургиева — причем белая — ночь! В ней цирковой парад сенсационных номеров мчится как неразрывный сюжет и феерия стиховых фокусов приводится к монотонной фразе колыбельного покоя.
Сколько бы ни рассказывал впоследствии Корней Чуковский, что годами готовился, изучая русский фольклор и психику детей (и вправду — изучал), — в этом его тексте (и в нескольких других) случилось что-то такое, чего не было в фольклоре, — вообще не бывало нигде и никогда, просто дремало в невидимой бездне возможностей русской речи. Из нее, как бы подземным толчком, выступил новый остров.
(Да, на острове водились демоны. Неспроста Корней Чуковский подбадривал себя гипотезой, будто все маленькие дети — сумасшедшие: избывая в этих стихах свой страх жизни и смерти, он создал, что называется, резонансные структуры для каких-то страшно древних импульсов младенческого интеллекта: иные стихи превращают его нервный тик — в клич свирепых дикарей, пропащих подданных Повелителя мух: «Нам акула Каракула Нипочем, нипочем, Мы акулу Каракулу Кирпичом, кирпичом, Мы акулу Каракулу Кулаком, кулаком…» Отчего-то сразу вспоминаешь — вместе с Лидией Корнеевной: «А мучительства! Любимая наша игра. Уше-вывертывание. Голово-отрубание. Пополам-перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс-по-попс. Волосо-выдергивание… Надежные руки, большие, полные затей…». Но это в скобках, в скобках.)
Такие удачи выпадают очень немногим, — он не мог этого не понимать. И сама обстановка этой удачи — ударившей, как молния восторга, — память об этом танце с клоком обоев (ему ли было не знать, с кем происходят — и то лишь изредка — такие вещи!) — не могла не обольстить его надеждой на новое — наконец-то желанное! — перевоплощение: в самого себя…
Впрочем, это все мои домыслы.
Как бы там ни было, приступы вдохновения (как еще назвать? нервный подъем?) скоро сошли на нет. Беспричинная радость (нечаянная, если угодно) посещала Корнея Ивановича и впоследствии, — но без музыки — не подсказывая интонаций. На беду себе он стал поэтом: с Корнеем Чуковским случилось, по-видимому, то, что им же рассказано про Александра Блока:
«Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:
— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?»
Они были почти ровесники. Корней Чуковский был на два года моложе Александра Блока, на четыре — старше Николая Гумилева. Жутко представить, как — и кем — дожил бы Блок до 1969 года.
Возможно, Лидия Корнеевна иногда думала об этом. Скажем, в «Записках об Анне Ахматовой».
Как Блок — или Гумилев — своей рукой выводит на бумаге или диктует, например:
«Уже самые заглавия этих произведений поэзии показывают, как расширился в последнее время диапазон интересов и вкусов ребенка.
„Песня о Ленине“. — „Первомай“. — „Мы — за мир!“ — „Полет в космос“. — „Мальчик и летчик“. — „Праздник урожая“. — „Мой папа — депутат“ <…> Так что вопрос о тематике стихов для детей можно считать (в общих чертах) решенным».
Это из прославленной, всеми любимой книги «От двух до пяти». Читать совестно, — и ведь ни слова неправды, а интонации просто нет — можете вообразить любую — хоть отвращение и тоску.
Но если в Корнее Чуковском и впрямь обитал какое-то время гений, подобные тексты унизительно смешны, как чудо дрессировки. Выходит, проиграл пациента шестикрылый серафим.
Разумеется, все это метафоры. И предрассудки. А все же обида — за Корнея Чуковского и на него — царапает ум.
Обмакнули, предположим, волшебную дудочку в чернила — назначили орудием письма, — она и старается.
Вне текста — без читателей — он был обиженный король. Калиф-аист.
В его облике проступало — сквозь вздоры сенильные, инфантильные, сквозь шутовство и артистический блеск — неумолчное несчастье.
Корней Иванович бурно жаловался только на пустячные обиды и горести, но внутренняя жизнь его всегда была, наверное, очень тяжела.
И все же до 1929 года совсем другой он был человек, — не такой, каким стал в 1931-м. За эти три года с ним произошли три катастрофы — личная: Мурочка умерла, младшая дочь, в страданиях непредставимых; литературная: гений этот пресловутый кончился; и еще какая-то катастрофа чести, что-то наподобие сделки с дьяволом.
Нет доказательств, что такая сделка состоялась наяву, — разве только сам факт, что Корней Чуковский уцелел при тирании, репрессиям не подвергался, даже сподобился мелких милостей (его дочь в книге «Прочерк» задалась вопросом: почему? ответила: не знаю, — стало быть, у Корнея Ивановича спросить не решилась). Дневниковая запись, которую сейчас я приведу, очень похожа на конспект кошмара, — но не более, чем многие другие страницы дневника Корнея Чуковского, в том числе правдивые бесспорно. Был ли искуситель, была ли подпись, или все это Корнею Ивановичу просто привиделось в ночь на воскресенье 30 июня 1968-го, но ход судьбы он понимал так: он предал свои сказочные стихи — за это у него отняли Мурочку:
«Когда в тридцатых годах травили „Чуковщину“ и запретили мои сказки — и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги — причем дал мне заглавие для них „Веселой Колхозии“. У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги: „Крокодила“, „Мойдодыра“, „Федорино горе“, „Доктора Айболита“, сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма и создам… „Веселую Колхозию“. Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня „полновесных идейных произведений“.
В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны — и я не написал ни одной строки.
И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем.
И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем»…
В печати никакого отречения, насколько я знаю, не было. Ханин этот, говорят, был — и в 1937-м расстрелян. Отречения тогда никого не спасали, «веселые колхозии» — тоже. Впрочем, ведь и «колхозий» Корней Чуковский не сочинил ни одной — вообще не опускался до пошлостей, дальше наивностей не шел. Не стану гадать — к чему этот самооговор; там есть еще такая фраза: «И мне стало стыдно смотреть в глаза своим близким».
Вину он, скорей всего, придумал. Либо, наоборот, зашифровал, связав с инцидентом заведомо нелепым и незначительным. Катастрофа-то — была: стихи с тех пор сделались бездыханны.
Все это, в сущности, парафраза некрасовского стихотворения «Поэт и Гражданин» (месть возлюбленной классики, рыдавшей в мозгу, как совесть!):
И что ж?., мои послышав звуки, Сочли их черной клеветой; Пришлось сложить смиренно руки Иль поплатиться головой… <…> Ах! Песнею моей прощальной Та песня первая была! Склонила Муза лик печальной И, тихо зарыдав, ушла. <…> О, Муза! Гостьею случайной Являлась ты душе моей, иль песен дар необычайной Судьба предназначала ей? Увы! Кто знает? Рок суровый Все скрыл в глубокой темноте…