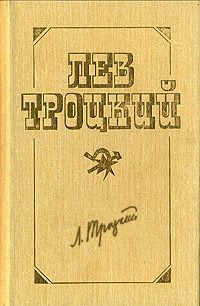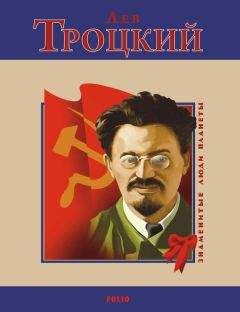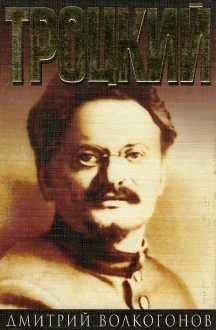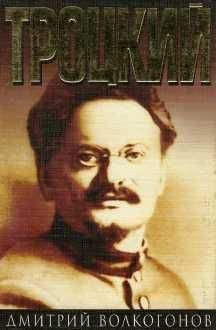Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
Фигаро, пращур маркиза Кейта, вообще нынешней интеллигентной богемы больших городов, говорил величайшие дерзости французской аристократии восемнадцатого века. Она в ответ восторженно рукоплескала ему. Это было нечто несравненно большее, чем каприз. Ее изощренный сословный инстинкт подсказывал ей, что она может наслаждаться артистами и художниками, только позволяя им презирать себя. Правда, она этим, в последнем, так сказать, счете, и не подкупила и не укротила Фигаро. Наоборот. Через каких-нибудь пять лет его дерзость революционным потоком перелилась через все плотины… Но мы посмеялись бы над исторической правдой, если б вздумали утверждать, что искусство обнаружило тут самостоятельную силу, наперекор социальной атмосфере. Нисколько. Ничуть. Фигаро был просто перехвачен у аристократии мещанством, уже достаточно досужим, чтобы наслаждаться искусством, и достаточно богатым, чтобы оплатить его.
«Искусство и старанье без награды — погибли бы»… Не прошло столетия, как буржуазия оказалась по отношению к искусству в таком же положении, в какое она сама поставила аристократию. В течение недолгого периода ее историческое существование настолько опустошилось, что искусство могло служить ей отныне, лишь презирая ее. Однако она счастливее дворянства: ее историческим антагонистом оказался класс, лишенный необходимого досуга, чтобы ввести искусство в свой обиход, и необходимых средств, чтоб освободить художников из-под ее власти. Она сохранила их за собою… Они служат ей, презирая ее.
«Симплициссимус» существует 13 лет. Он выступил в момент, когда в политической жизни Германии завершался серьезный перелом. Под влиянием победоносной политики Бисмарка, которому теперь начинают платонически поклоняться иные декаденты русского либерализма, буржуазия сбросила с себя последние отрепья идей 48-го года и приняла пруссифицированную Германию из рук железного канцлера, как кивот завета. Эпоха капиталистического чавканья развернулась во всю ширь. Лучшие элементы буржуазной интеллигенции очутились в трагическом одиночестве. Уже одно эстетическое чутье не позволяло им превратиться в певцов сытой, кредитоспособной, саблегремящей морали. Литература, искусство начинают искать новых путей и новых перспектив… В 1890 г., за пять лет до возникновения «Симплициссимуса», падает бисмарковский закон против социалистов. Социал-демократическая партия выступает на открытую арену. Окруженная романтикой подполья, венчанная победой, она становится центром идейного внимания. К ней тяготеют молодые силы искусства и литературы, на первом месте Гергарт Гауптман. Ничто не казалось им тогда, рассказывает венский писатель Герман Бар, более высоким, чем быть «истинным пролетаром» (ein echter Proletar zu sein). Один меньше, другой больше, но все были заражены духом социального протеста. Под этим знаком и возник «Симплициссимус» — на юге, в мелкобуржуазной демократической и католической столице Баварии, где экономическая отсталость соединялась со старыми эстетическими традициями в естественную оппозицию крупнокапиталистическому и полицейскому северу.
Но — «искусство и старанье без награды — погибли бы»… Восставая против мещанской морали, «Симплнциссимус» апеллировал к мещанскому рынку. Он завоевал успех — огромный успех — и пал жертвой его. Техника издания стала несравненно совершенней; но острие сатиры притупилось. Неопределенный социальный идеализм сменился блазированностью. Центр внимания все время передвигался — от значительного к занимательному. Сенсация и экстравагантность все более отодвигают глубину захвата. Социальные мотивы исчезают из поэзии «Симплициссимуса». Лирика в духе Демеля уступает свое место утонченному версификаторству поэтов, которым нечего сказать. Взвинченная парадоксальность и сантиментальная интимность; утонченная в приемах тривиальность и рядом с ней болезненная изощренность. И разумеется, эротизм. Дамское белье изделия Гейлемана — Резничека выдвинулось на передний план… И нередко с досадой перелистываешь свежий номер и не находишь в нем более духа живого.
Параллельно с этой внутренней эволюцией идет внешняя. «Симплициссимус» стал дороже в цене. Сперва он рассчитывал на народную массу, теперь на интеллигентное мещанство и на кафе. В 1905 г. тираж издания далеко перевалил за сто тысяч, и издатель закрепил художников за журналом, сделав их участниками предприятия. Завоевав успех, «Симплициссимус» сам становится капиталистической силой на журнальном рынке. Он венчает и развенчивает, создает репутации, притом не только литературные, но и промышленные. Рекламы занимают почти половину каждой тетради. Вы находите их не только в отделе объявлений: они вкраплены в столбцы текста и протянули свои щупальца к иллюстрациям. Реклама покупает художников и становится художественной. Гульбрансон делит свой карандаш между социальной сатирой и объявлениями торговых фирм. Резничек комбинирует женское белье с разными фирмами шампанского. Гейне стилизирует автомобиль «Zusb» и насаживает на него голову мопса. Бедный мопс радикализма и непримиримой сатиры! Он стал наемной собакой капиталистической рекламы.
Три года тому назад «Симплициссимус» дал к десятилетию своего выхода в свет сатирическое обозрение всех преступлений, совершенных им против нравственности, общественных приличий и прочих устоев гражданственности. И тем не менее — Такой иллюстрацией закончил Гейне этот отчет — даже приговоренный к смерти разбойник Алармсредер, уже находясь на плахе, за несколько минут до казни, не мог отказаться от прочтения свежего номера «Симплициссимуса». Это, конечно, преувеличение. Но зато действительно нельзя сомневаться, что, каждый «просвещенный» немец, не находящийся под топором, включил «Симплициссимус» в свой незыблемый идейный инвентарь. Остро, талантливо, поражает глаз. Но чего же она хочет все-таки, эта яркая группа карикатуристов и поэтов? — повторим мы наш вопрос. Она этого не знает сама. Куда зовет? Куда ведет? Никуда! И в этом, в сущности, секрет ее успеха. Она дает красивое и злое выражение пассивному скептицизму интеллигентного мещанства, но ни к чему не обязывает. Она никуда не зовет — ни направо, ни налево. Она только регистрирует. В краске и в слове она дает выражение психологии исторического тупика. Некуда идти. Надеяться не на что. Реакция груба. Но — масса?… Масса тупа. Тупа уже Питому, что массовидна. Что же остается? Вера? Но как отважиться на полет в горние сферы в наше время аэронавтов, которые душу Шледерера разбили в куски? Любовь? Конечно, любовь… Но вот вам все подушки алькова. Что же остается? Немного иллюзий, немножко романтики, радость красивых форм и неожиданных сочетаний. Но иллюзии хрупки, романтика нам не по возрасту — и каждую каплю романтики приходится растворять в бокале цинизма. А красивые формы… красивые формы, как и безобразные, пожираются смертью. В итоге остается только маленький технический вопрос: погребать или сожигать? Не все ли равно? Впрочем, лучше сожигать: «черви так щекочут»…
29 июня 1908 г.
P. S. Незачем говорить, что во время мировой войны «Симплициссимус» нашел свое место в рядах воинствующего шовинизма, рядом с магдебургскими и иными быками (VI.1922).
Затмение Солнца
Можно не любить Берлина — и многие не любят его. Но нельзя не испытывать глубокого уважения пред сосредоточенной, почти трагической серьезностью, которая образует характер этого города. Нигде пульс современной истории не бьется с такой зловещей отчетливостью, как в Берлине.
Париж несравненно богаче традициями. Там памятники еще более красноречивы, чем ораторы. «Здесь, перед нами, в Тюильэри, — говорил Берне Генриху Гейне, гуляя с ним по Парижу, — гремел Конвент, собрание титанов». Там огромные события, величайшие из всех, какие записаны в книгу новой истории, до сегодняшнего дня заполняют своим гипнозом политическую и нравственную атмосферу. Консервативный по своим экономическим формам, весь в плену своих блестящих традиций, Париж давно уже утратил духовную и политическую гегемонию, которая была в его руках в конце XVIII и в середине прошлого столетия…
Лондон несравненно грандиознее Берлина. Он не беднее Парижа унаследованными преданиями. И все же при всей своей капиталистической чудовищности Лондон гораздо меньше воплощает душу современной эпохи, чем столица Германии: для этого он слишком своеобразен и консервативен — со своей бытовой косностью, англиканским ханжеством и политической рутиной. В области идеологии он скареден, питает инстинктивное отвращение к обобщениям и признает только те системы, на которые время давно наложило печать устарелости. Лондон — это современнейший город, который с неутомимым, хотя и безнадежным упорством обороняется от современного самопознания.
Берлин можно не любить, но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что именно здесь история завязала свой гордиев узел. Эти бесконечные ровные улицы, эта идеальная нумерация домов, эти непреклонные шуцманы, Тиргартен с его глиняной родословной Гогенцоллернов, наконец, неизбежный и вездесущий «Ашингер» — все это прозаично, как будка часового. Но на этой обнаженной основе сложилась в кристаллической ясности и законченности социальная драма капиталистической культуры. Точно ножом хирурга проведены здесь межевые линии, отделяющие враждебные лагери. Ни возвышающий обман исторических традиций, ни наследственный дух компромисса не смягчают политической атмосферы. Нет ни полусвета, ни полутени. Общественная идеология похожа на геометрическую проекцию реальных отношений. Обе стороны сделали для себя последние логические выводы, и им остается только сознательно идти навстречу тому часу, когда автоматизм жизни поставит их у предела и скажет: Hie Rhodus, hie salta![20]